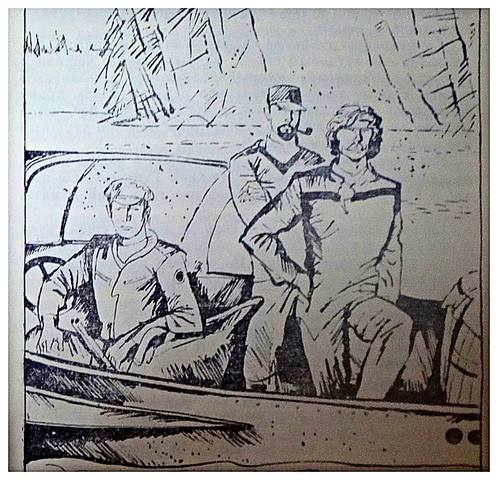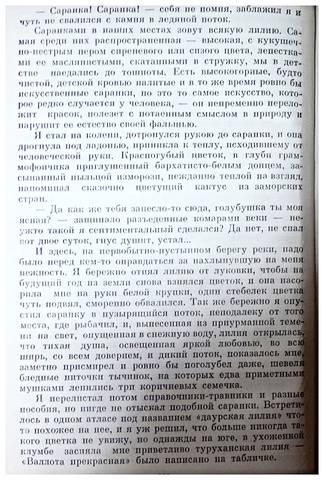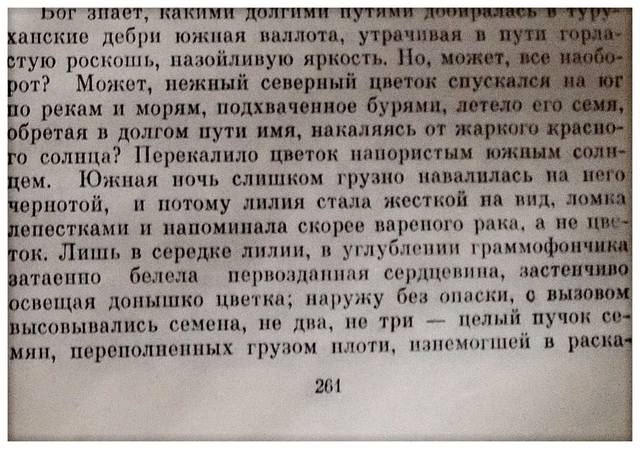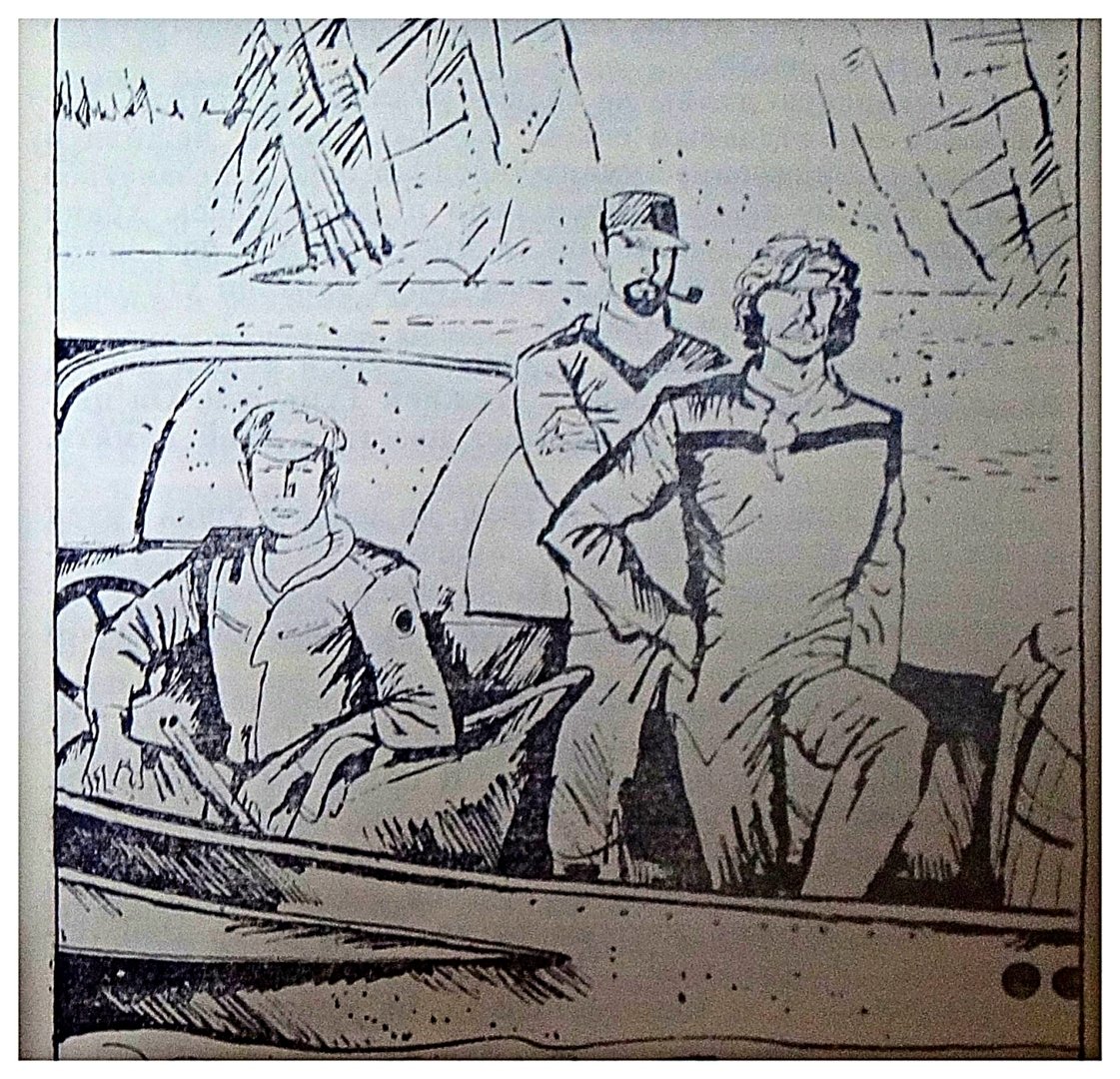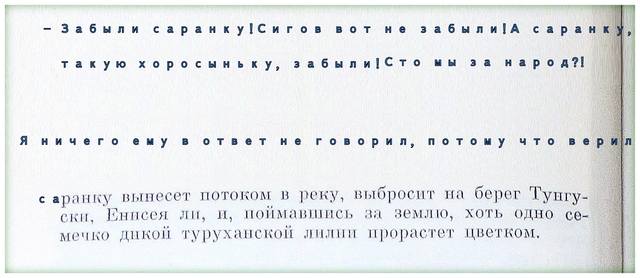*** ***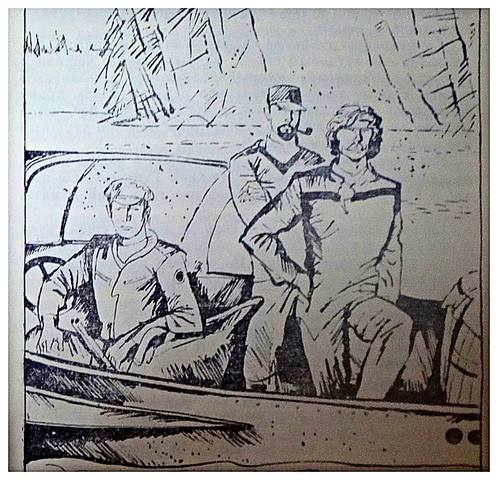
***
Кому-то в тридцатые годы понадобилось переселять людей из Ербогачона в
Туруханск, а из Туруханска в Ербогачон. От Ербогачона плыли на сплотках. "В
Туруханске, -- сказали переселенцам, -- сдадите лес, за него выплатят
деньги, начнете строиться, обживаться". До Туруханска дошло всего лишь
несколько семей, побила плоты Угрюм-река, растрепала в шиверах и порогах,
утащила в унырки. Женщина-переселенка видела распятого на скале мужика,
волосатого, нагого -- вершиной бревна поддело его и приткнуло к камню, и,
когда спала вода, он остался вверху -- борода треплется, широкий черный рот
кричит из поднебесья, кости рук раскинуты, будто не пускал мужик людей
дальше, видя с высоты погибельное устье реки.
Рассказывая о том страшном пути по Тунгуске и тридцать лет спустя,
опасливо озиралась переселенка, вытирая согнутым пальцем глаза: "Заташшыло
плот одинова в слепое плесо, день носит по кругу, другой, третий -- не
пристать к берегу, не выбиться, сил уж никаких нету. Пятеро детей на плоту,
есть нечего, помощи ждать не от кого -- раз стронули людей с места, сдвинули
одних туда, других сюда на погибель -- какая уж помощь? Лег тогды мой хозяин
на плот, ребятишкам велел лечь и кричать в щели меж бревен: "Спаси нас,
господи! Или покарай! За грехи людские!" Но он у меня из иноверцев был, он
иконы из дому повыбрасывал, стало быть, молитва не в кон. И тогда по ихнему,
по языческому способу молебствие изладил: нащепал лучины, велел жечь ее и по
очереди бросать в воду. У младшенького сынка лучинка упала крестиком и не
гаснет. Хозяин всем велел лечь головой ко крестику, руки сделать крестом и
повторять: "Вода, лиху не насылай! Ветер, ветер, пробудись, о полуночь
обопрись, в полудень подуй, наши души не минуй..." Ну, много чего он там
выл-городил -- и помогло! Верховичок потянул, на реку выташшыл".
...Я смотрю на такую простенькую после бурного устья реку и невольно
думаю о красивой эвенкийке, каких до войны не встречал. Косолапы они прежде
сплошь были, курносеньки. Эвенкийка сидела на бревне возле туруханского
дебаркадера, в радужном японском платье. С одного бока ее кособочился ровно
бы в помоях выкупанный мужик со шрамами на лице и на голове, с половиной
пальцев на руках -- появился на Севере сорт людей, до того истаскавшихся по
баракам, зимовьям, пристаням, что уж ни возраста, ни пола их сразу не
определишь; с другого бока вроде бы вместе со всеми и в то же время как-то
врозь сидел и сосал мокрый окурок эвенк в развернутых до пахов резиновых
сапогах.
Перед троицей на камнях стояла бутылка дорогого коньяку, захватанный
грязными руками стакан. Время от времени, не отрывающая взгляда от чего-то,
ей лишь видимого, девушка-эвенкийка ощупью брала бутылку, наливала в стакан
коньяку, медленно его высасывала, доставала из пачки зубами сигарету,
властно хватала руку соплеменника, прикуривала от его цигарки, отбрасывала
руку и снова вперивалась во что-то взглядом. В глуби светящихся тоскливой
темью глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта древняя печаль, вызывала
необъяснимую тягу к женщине, хотелось узнать, о чем думает, что видит она
там, за белыми вершинами гор и "об чем гуляет?".
Первым умом, тем, что сверху, я разумею: пьяница и потаскушка она, эта
неожиданно красивая северянка в моднейшем грязном платье, которое она
сбросит, как только платье начнет ломаться от грязи, и напялит на себя
новое. Вторым умом, наджабренным, но еще острым, и не умом, нет, а вечным
мужицким беспокойством я ощущаю зов этой свободной красавицы.
На другой день, сидючи на берегу Нижней Тунгуски, возле удочек,
изъеденный комарами, я мучился, вспоминая северную красавицу -- кого же,
кого она мне напоминает? И внезапно открыл: да ее, вот эту реку, Нижнюю
Тунгуску, которая, догадываюсь я, всю жизнь теперь будет звать, тянуть к
себе молчаливой печалью. Одетая в каменное платье, украшенная по оподолью то
тяжелыми блестками алмазов вечной мерзлоты, то жарким пламенем цветов по
берегам -- бечевкам, то мысом, вспененным пушицею, лужком, поляной,
галечными заплесками, угорело пенящимися потоками, выдравшимися из хламной
зябкости лесов, всем, что растет, живет, звучит и успокаивается ею, будет
помниться подвидно-печальная Угрюм-река.
Выше ее, над тайгой, над болотными марями, то ближе, то дальше, то
ниже, то выше призрачно белеют дальние хребты, куда в эту пору уходит,
уползает, бежит всякая живая тварь, спасаясь от гнуса. Лишь мы с Акимом
остались на съедение комарам возле потока, дымчато курящегося, опьянелого от
дикой воды. Палатка наша оранжевого цвета стала желто-серой, даже
грязноватой. На ней, чуя живую кровь, сплошняком налип комар. Он не дает
есть, спать, думать, жить. Когда обогреет солнце, не выносящий тепла
северный гнус, дитя мерзлой земли, западает в траву, и шевелится тогда,
шипит седая трава по прилескам. Аким куревом вытравил из палатки комаров,
застегнулся на "молнию", сидит, не дышит, слушает слитный, металлический
звон над собою, время от времени кличет меня в укрытие и, не дозвавшись,
роняет: "Ну, как знас! Пропадай, раз чокнутай, дак!"
У меня есть флакончик "дэты", на мне надета штормовка, под нею костюм,
белье, я крепко замкнут, завязан, зашпилен, и все-таки комары находят чего
есть: веки, ноздри, губы, запястье под часами, голову сквозь башлык. Но я
столько лет мечтал посидеть на северной реке, половить непуганую рыбу,
послушать большую тишину -- мне уж не попасть на Север, годы и здоровье не
пустят, так что ж, бросать все, попуститься, сдаться из-за комаров?
Хариус и таймень прошли в верха Тунгуски, разбрелись по ее студеным
притокам, заканчивался ход сига. Но все же изредка брал местный, становой
хариус и ленивый, любящий вольно погулять хвостовой, не стайный сиг. И как
брал! Удочек у меня развернуто две -- длинная и короткая. Рыба берет
почему-то на одну и ту же, на длинную, заброшенную ниже потока, шумно
врывающегося в тугие, надменные воды Тунгуски. Груз на удочке -- всего две
картечины, иначе замоет, затащит снаряду песком. Вода в потоке чище слезы,
но все же с кустов, с лесу какая-никакая козявка, блоха, гусеница падают,
из-под камней или песка букашку иль стрекача вымоет, и потому хариусы и сиги
чутко дежурят в устье потока, шпаной бросаются на корм.
Я жду поклевки крупной рыбы -- в такую даль забирался неужто зря?! И
вот леску длинной удочки потащило по течению вверх; затем резко повело
вглубь, в реку. Жидкий конец удилища заколотился, задергался, изогнулся
вопросительным знаком.
Я взялся за удилище.
Пяток хариусов и четырех сижков-сеголетков я достал -- те брали не так.
Напружиненное мое сердце подсказывало: "Клюет дурило!" Я спешно вспоминал
сечение лески, нет ли узлов, жучин? Леска без изъянов, все привязано прочно,
крючок крупный, удилище проверено на зацепах. Чего же сиг медлит? Хитрован
или дурак? Зажал червя за конец и ждет, когда я рвану и подарю ему наживку,
которой осталось у меня по счету? ...
Была не была! Без подсечки, тихонько я стронул удочку с места, в ответ
удар -- едва удержал удилище! И пошел, пошел стряпать крендели сиг! Я не мог
подвести его к берегу, не мог остановить, взять на подъем, чтобы хлебнул
ухарь воздуха. Сиг правил мной, а не я им, но все у меня стойко, прочно,
рыбина взяла червя взаглот, иначе давно бы сошла. Значит, сиг стоял на
быстри и спокойно зажирал червя -- удилище вопросом. Ох, какой я молодец!
Какой молодец! Заторопился бы, сплоховал -- и с приветом! Это я на охоте: то
пальну возле ног, то уж когда версты две птица отлетит, но тут шалишь! Тут я
выдержал характер, и сиг ходил на удочке, танцевал, рвался на волюшку, в
просторы. Я бегал, метался по берегу, спуску ему не давал. И вдруг рыбина,
понявши, что в реку не уйти -- не пущают, резко помчалась к берегу, рассекая
воду святым пером -- так в Сибири зовут спинной плавник, -- это была еще
одна ошибка сига, последняя в жизни -- по ходу, по лету я взбежал на
приплесок и выбросил на темный песок бунтующего, темноспинного красавца,
сшибающего с себя серебро чешуи. Отбросив сига ногой в сторону, я запрыгал и
закричал хвастливо, что есть я старый рыбак и коли сиг хотел со мной игрушки
играть, не надо бросаться к берегу -- мигом подберу слабину, и отыми ее,
попробуй! И вообще я хороший парень, а сиг -- хороший людя! Взял вот,
попался и надолго, если не на всю оставшуюся жизнь, подарил мне такую
радость.
Никого нигде не было, что хочешь, то и делай, впадай хоть в какое
детство -- и я поцеловал сига в непокорную, стремительно заточенную морду,
вывалянную в песке, снес рыбину и швырнул за гряду камней, в поток, где он
сразу заходил, заплескался, взбивая муть и раскатывая гальку, пробовал
куда-нибудь умчаться, да только выбросился на камни и долго скатывался
обратно в щекочущую воду...
В эту ночь брало еще несколько крупных сигов, но удачи мне больше не
было -- все они оказались хитрее и сильнее меня.
Я ждал дня, чтобы перевести дух от комаров и хоть маленько поспать. Но
день пришел такой парной, что палатка сделалась душегубкой. В насквозь
мокрой одежде, задохнув- шийся, почти в полуобмороке я отправился в лес,
надеясь найти червяков и отдышаться в холодке, но как только вошел в
тряпично завешенный мхами, обляпанный по стволам плесенью и лишаем,
мелкоствольный, тыкучий лесишко, почувствовал такую недвижную духотищу, что
сразу понял: ничего живого, кроме мокрецов, плотно залепивших мне рот и уши,
здесь нет, все живое изгнано, выбито отсюда на обдув высоких хребтов. Жил,
резвился и вольно дышал в обмершем лесу лишь поток -- дитя вечных снегов. Не
было ему ни метра пространства, где бы выпрямиться, потянуться, успокоиться.
Рычащей, загнанной зверушкой метался он меж ослизлых камней, заваливался,
весь почти терялся под вымытыми корнями, застревал в завалах и бурлил тут,
пенился взъерошенно, катался кругами, но продирался-таки, протачи- вался в
невесть какие щели и скакал с гряды на гряду, с камня на камень, вытягиваясь
змейкой в расщелинах, в клочья рвал себя на осыпях и вывалился, наконец, из
тайги, из-под гряды прибрежного завала, навороченного ледоходом, совсем было
его удушившего, к Тунгуске.
Пьяный, с разорванной на груди белопенной рубахой -- и свободы-то сотня
сажен, но он и этакой волюшке рад, заурчав радостно, будто дитенок, узревший
мать, он внаклон катился к Нижней Тунгуске, припадал к ее груди и тут же
умиротворенно смолкал. Зимой дикий поток погрузится в оцепенелый, ледяной
сон, заметет его снегом, и никто не узнает, что средь заметенного леса, под
глубокими сувоями распластанно, окаменело спит он мертвецки, спит до той
счастливой поры, пока не оживит его солнце и снова он кипуче, светло, бурно
отпразднует лето.
Понявши, что червей мне не раздобыть, я сломил пучку, зубами содрал с
нее жесткую кожу и жевал сочный побег, прыгая с камня на камень, как вдруг,
при выходе из завала, средь наносного хлама, пробитого там и сям пыреем,
метлицей, трясункой и всякой разной долговязой травкой, увидел лилию,
яркую-яркую, но как-то скромно и незаметно цветущую среди травы, кустов и
прибрежного разнотравья. 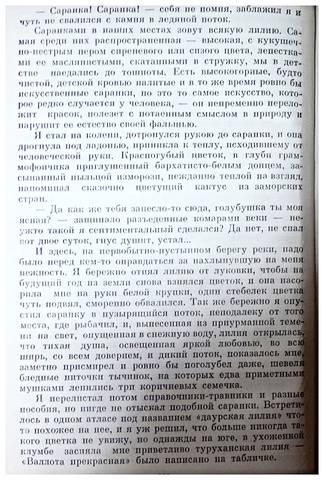
-- Саранка! Саранка! -- себя не помня, заблажил я и чуть не свалился с
камня в ледяной поток.
Саранками в наших местах зовут всякую лилию. Самая среди них
распространенная -- высокая, с кукушечно пестрым пером сиреневого или сизого
цвета, лепестками ее маслянис- тыми, скатанными в стружку, мы в детстве
наедались до тошноты. Есть высокогорные, будто чистой, детской кровью
налитые и в то же время ровно бы искусственные саранки, но это то самое
искусство, которое редко случается у человека, -- он непременно переложит
красок, полезет с потаенным смыслом в природу и нарушит ее естество своей
фальшью.
Я стал на колени, дотронулся рукою до саранки, и она дрогнула под
ладонью, приникла к теплу, исходившему от человеческой руки. Красногубый
цветок, в глуби граммофончи- ка приглушенный бархатисто-белым донцем,
засыпанный пыльцой изморози, нежданно теплой на взгляд, напоминал сказочно
цветущий кактус из заморских стран.
-- Да как же тебя занесло-то сюда, голубушка ты моя ясная? -- защипало
разъеденные комарами веки -- неужто такой я сентиментальный сделался? Да
нет, не спал вот двое суток, гнус душит, устал...
И здесь, на первобытно-пустынном берегу реки, надо было перед кем-то
оправдаться за нахлынувшую на меня нежность. Я бережно отнял лилию от
луковки, чтоб на будущий год из земли снова взнялся цветок, и она насорила
мне на руки белой крупки, один стебелек цветка чуть подвял, сморенно
обвалился. Так же бережно я опустил саранку в пузырящийся поток, неподалеку
от того места, где рыбачил, и, вынесенная из приурманной темени на свет,
опущенная в снежную воду, лилия открылась, что тихая душа, освещенная яркой
любовью, во всю ширь, со всем доверием, и дикий поток, показалось мне,
заметно присмирел и ровно бы поголубел даже, шевеля бледные ниточки тычинок,
на которых едва приметными мушками лепились три коричневых семечка.
Я перелистал потом справочники-травники и разные пособия, но нигде не
отыскал подобной саранки. Встретилось в одном атласе под названием "даурская
лилия" что-то похожее на нее, и я уж решил, что больше никогда такого цветка
не увижу, но однажды на юге, в ухоженной клумбе засияла мне приветливо
туруханская лилия -- "Валлота прекрасная" было написано на табличке.
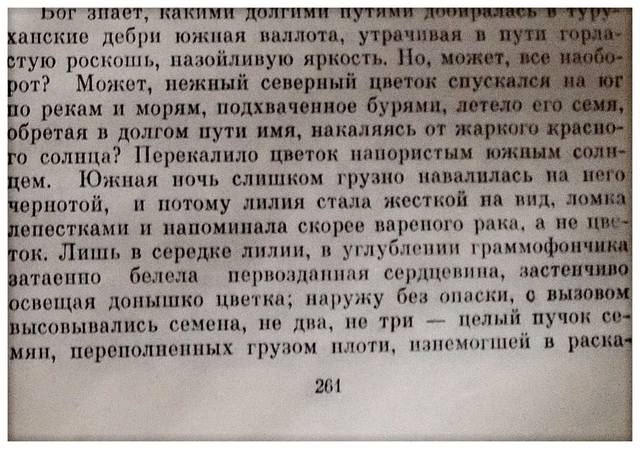 Бог знает, какими долгими путями добиралась в туруханс- кие дебри южная Бог знает, какими долгими путями добиралась в туруханс- кие дебри южная
валлота, утрачивая в пути горластую роскошь, назойливую яркость. Но. может,
все наоборот? Может, нежный северный цветок спускался на юг по рекам и
морям, подхвачен- ное бурями, летело его семя, обретая в долгом пути имя,
накаляясь от жаркого красного солнца? Перекалило цветок напористым южным
солнцем. Южная ночь слишком грузно навалилась на него чернотой, и потому
лилия стала жесткой на вид, ломка лепестками и напоминала скорее вареного
рака, а не цветок. Лишь в середке лилии, в углублении граммофончика затаенно
белела первозданная сердцевина, застенчиво освещая донышко цветка; наружу
без опаски, с вызовом высовывались семена, не два, не три -- целый пучок
семян, переполненных грузом плоти, изнемогшей в раскаленном цветочном нутре,
спешащих скорее оплодотвориться и пасть на землю.
Туруханскую лилию не садили руками, не холили. Наливалась она студеным
соком вечных снегов, нежили и стерегли ее уединение туманы, бледная ночь и
незакатное солнце. Она не знала темной ночи и закрывалась, храня семя, лишь
в мозглую погоду, в предутренний час, когда леденящая стынь катила с белых
гор и близкий, угрюмый лес дышал знобящим смрадом.
Как было, что было -- не угадать. Но я нашел цветок на далеком
пустынном берегу Нижней Тунгуски. Он цветет и никогда уже не перестанет
цвести в моей памяти.
Настала еще одна ночь, мутная, до звона в ушах тихая и еще более
душная. Тело мое замзгнуло, стало быть, прокисло, задохнулось от пота. Из-за
мыса вымчалась деревянная лодка, задрав нос, полетела на меня, ударилась в
берег.
-- Дру-уг! -- закричали с нее два окровавленных мужика. -- Бери, че
хочешь! Дай намазаться! Съели! Сгрызли! О-о-ой!.. Это че же тако?.. -- Я
подал им флакончик. Они со стоном намазались и воскрешенно выдохнули:
"Во-о-осподи-и-и!". Рыбаки эти гнались за хариусом вверх по Тунгуске. Рыбу
не догнали, себя гнусу стравили. Покурили, матерно ругая комаров: -- Э-э!
Закружился, затренькал! Че, взял? Взя-ал, паскуда! Не ндравлюсь я те
намазанный-то, не ндравлюсь?! -- и от благодарности предложили мне сматывать
удочки и двигать в Туруханск, пить вино.
Я отказался и, жалеючи: "Доедят ведь!" -- мужики отдали мне червей,
завели мотор, и умчались.
На свежих червей я взял еще одного сига, несколько рыб помельче, но
густела марь, густел воздух, густел комар. Я сидел, засунув руки в рукава
штормовки, всему уже покорившийся, ко всему безразличный, раскаиваясь в том,
что не согласился уплыть с рыбаками.
Когда мы ехали в Туруханск, Аким не переставал хвастаться, что дружки
его по геологической экспедиции, неутомимые разведчики недр, если
потребуется, так и на луну доставят. Но на Севере все течет, все изменяется
в народе куда быстрее, чем во всякой иной земле. Подверженные зову кочевых
дорог, соратники Акима давно покинули Туруханск, и, до пыху набегавшись по
городу, он в каком-то бараке сыскал непроспавшегося мужика, который за
червонец доставил нас сюда, единожды лишь за дорогу разжав рот: "Дожидайтесь
пересменки". Пересменка -- воскресенье, ждать еще два дня -- попробуй доживи
до назначенного срока!
Из скалистого устья Нижней Тунгуски послышался мощный рокот, гулкое,
отрывистое, слишком какое-то уверенное биение моторного сердца. Встречь
воде, задирая ее высоко и разделяя белыми крылами, шла серебристо блистающая
обводами моторка. По-акульи хищно вытянутое тело моторки без напряжения
скользило по воде. В носу судна заподлицо заделан кубрик с двумя круглыми
фрамугами, застекленными авиационным стеклом.
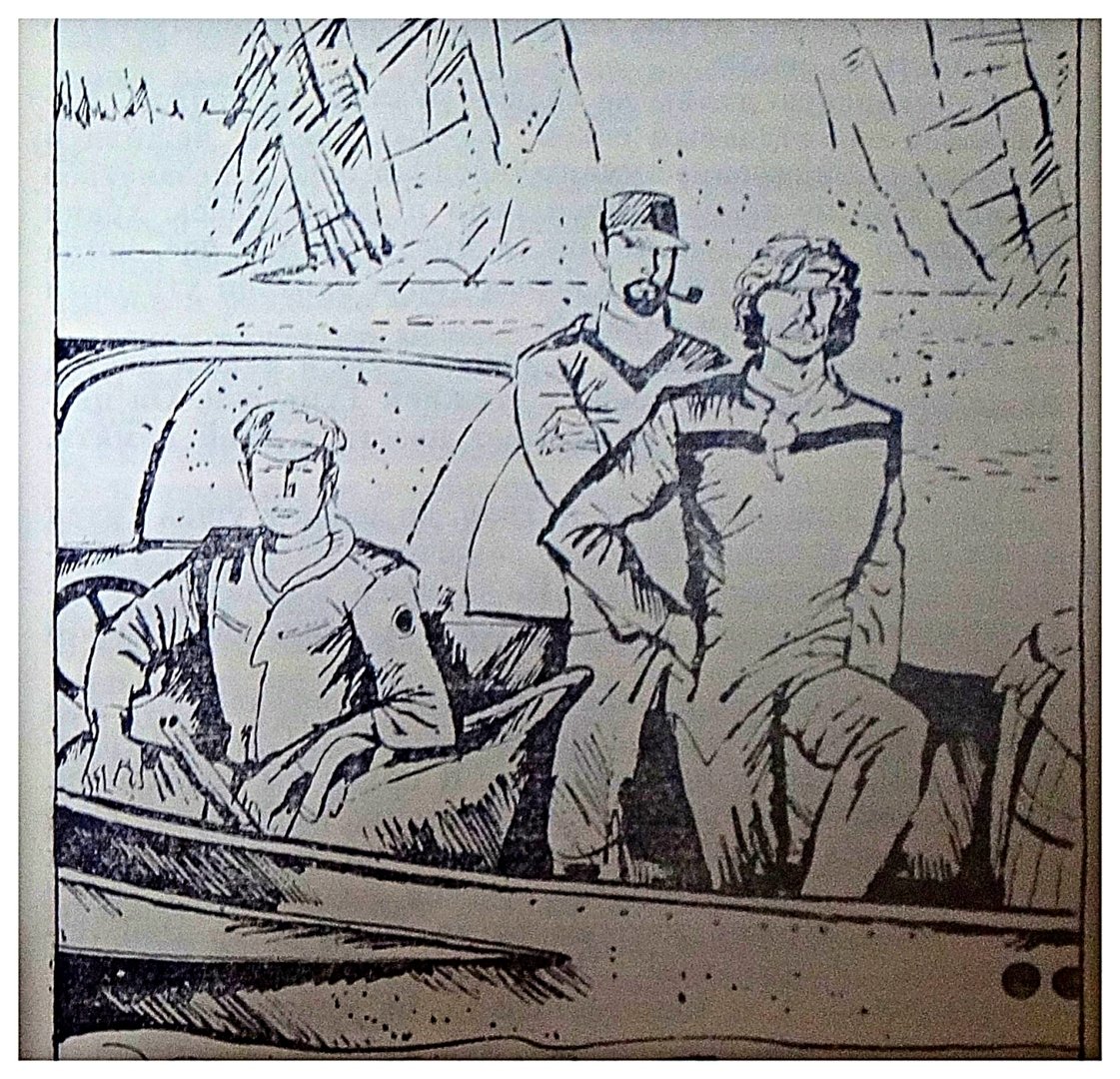 Клюнув носом и отбросив ком воды, моторка точно бы ненароком подвернула Клюнув носом и отбросив ком воды, моторка точно бы ненароком подвернула
ко мне. У руля сидел крепкий, непромокаемо и плотно, под космонавта одетый
парень с изветренным лицом и адмиральски надменным взглядом. В ногах его
пятизарядный вороненый карабин. Парень не здоровался, ни слова не говорил,
ощупывал меня настороженными глазами, обыскивал, выворачивал карманы
взглядом, пытаясь уяснить, какое там лежит удостоверение и кто затаился в
палатке? Мотор поуркивал отлаженно, мощно, удерживая лодку на месте. Из
кубрика выскочили два заспанных и тоже здоровенных парня, одетых в
редкостные летные костюмы. Кормовой повел на меня взглядом. Подобранные,
напружиненные парни тоже обшарили меня неприязненными взглядами, один из них
раздосадованно бросил: "А-а!" -- и стал мочиться через борт, стараясь
угодить в поплавок моей удочки.
Три вот этих разбойника еще недавно были нормальными рабочими парнями,
но утомило их производство. Они сконструировали на авиационном заводе и
воровски, по частям вывезли люкс-лодку. Полмесяца назад увезли с одного из
притоков Нижней Тунгуски шестьсот килограммов тайменьего балыка и вот идут
за хариусом. Прикрытые брезентом, стоят в лодке бочки. Закончив харюзную
страду, они примутся за сига. Тем временем взматереет птица, вызреет орех.
Бензопилой они сведут сотни гектаров кедрачей. За один только сезон три
добрых молодца вырывают из тайги дани на многие тысячи рублей, живут
размашисто, разбойничают открыто. Пробовал их преследовать и застукать
рыбинспектор Черемисин -- был из леса подстрелен, и ладно, лодку течение
вынесло к Туруханску.
Пришлось Черемисину после больницы переводиться на более "спокойный"
чушанский участок. В Туруханске силы нет против этой вот маленькой, но
нахрапистой банды, которую по закону, видите ли, следует брать на месте
преступления, но бандюги так вооружены, подлы и ловки, что взять их сможет
разве что воинское подразделение. Войско же занято совсем другими делами, и
безнаказанно, разнузданно пиратничает банда по обезлюдевшему Северу, да кабы
одна!
-- Ну, чего выпялился? -- сорвался я. -- Не видел, как удочкой рыбу
ловят? Взрывчаткой гробить ее привык?
Кормовой дернулся, сжал рукой шейку карабина так, что наколка на
тыльной ее стороне сделалась синее, но тут же поймал взглядом палатку,
харкнул за борт, процедил сквозь зубы: "Попадись нам еще, шибздик!" -- и
врубил скорость. Взрыхлилась муть, заголило лоскутом устье потока, скрутило
удочки, толкнуло волной песок, шевельнуло рыхлый приплесок, и серебристая
моторка уверенно удалилась за мыс.
Ну почему, отчего вот этих отпетых головорезов надо брать непременно с
поличным, на месте преступления? Да им вся земля место преступления!
В глухой час, в минуты самой необъятной тишины взялись переплывать
Тунгуску лось с лосихой и отвлекли меня от мрачных дум. Опустилась парочка
напротив мыса с явным расчетом выйти на берег вдали от человека, но течением
зажало зверей, потащило по реке. Шумно хукая ртом, сопя ноздрями, отфыркивая
воду, вытаращив то вспыхивающие, то меркнувшие от небесного света глаза, они
плыли на меня, погрузнув в воду до подбородков. Выходило так, что зверюги
ткнутся в удочки. Я стал соображать, как и чем отпугивать парочку, собрался
уже бежать к палатке, но сохатые все же осилились, коснулись дна саженях в
пяти от меня, какое-то время стояли, загнанно дыша, уронив тяжелые обрубыши
голов, с которых потоками рушилась вода. Сохатые, должно быть, поняли: если
стрелять, так я бы уже давно стрелял, и не обращали на меня внимания --
сидит и сидит дяденька на уступе приплеска, руки в рукава, не двигается,
комары его, видать, приканчивают.
-- Че хулиганите-то?
От моего голоса звери дрогнули, взбили воду, долговязо выбросились на
берег и нырко понеслись в кусты, щелкая копытами о камни. За нагромождением
завала они загромыхали, стряхивая с себя мокро. Я улыбнулся себе --
появление добродушных и неуклюжих зверей сняло тяжесть и унижение с души,
которые с возрастом больше давят и сильнее ранят.
Неслышно подошел Аким. "Зывой ли ты иссо?" -- спросил. Я сообщил ему,
что приставали "туристы", которым человека щелкнуть все равно, что
высморкаться. Потом лось с лосихой чуть было меня не слопали. Аким буркнул,
мол, тырился небось опять? Тут, мол, тайга, милиция далеко... и, увидев
саранку, дотронулся пальцами до алых лепестков, окропленных светлыми
брызгами:
-- Сто за светок, пана? Какой красивай! -- и опять, в который уж раз,
начал мне повествовать про тот цветок, который однажды весною, в далеком
детстве, нашел он в тундре возле Боганиды, и я подумал: "Аким начинает
ощущать годы, чувствовать груз памяти".
Наутре спускался по Тунгуске железный тихоходный катер. Мы замахали,
заорали, забегали по берегу. На катере оказались симпатичные ребята: капитан
Володя, матрос дядя Миша и тихий паренек, едущий из поселка Ногинска
поступать в туруханское ПТУ. Нам дадено было пятнадцать минут на сборы. Мы
уложились в десять. Но и за эти короткие минуты щенок, которого везли на
катере, опрокинулся на спину, закатался, завизжал -- свалили комары.
На катере, тоже забитом комарами, сварена уха из стерляди, у нас
бутылка. Мы ее выпили за знакомство, принялись артельно хлебать уху из
кастрюли, и я тут же поперхнулся -- стерлядь оказалась нечищеной. Давиться
плащом стерляди страшнее, чем костью, плащ -- что тебе стеклорез, распорет
кишки. "Ты че же, друг", -- сбавляя темпы в еде, собрался я укорить дядю
Мишу. Но тут же догадался -- комар помешал! Месяц-полтора всей жизнью на
Севере будет править гнус: мокрец, комар, слепень, мошка.
Без сна дюжить не было мочи. Намазавшись "дэтой", я упал в кубрике на
топчан, замотал лицо простыней и проснулся вроде бы через несколько минут от
тишины -- мы стояли в Туруханске. И вот оказия, вот ведь наказанье за
непочтение родителей: только сошли с катера, взобрались на яр, рухнул
обвальный дождь, который собирался все последние дни, потому и было так
глухо в тайге, оттого и свирепствовал непродыхаемый гнус.
Дождь хлестал, пузырился, крошил гладь Енисея, обмывал запыленные дома
старенького скромного городка, высветляя траву, листья на деревьях, прибивал
пыль, обновлял воздух. Бродячие собаки, которых здесь не счесть, лезли под
лодки, где-то визжали и резвились дети, все канавки, выбоины, ямы и бочажины
взбухали, наполняясь водою, превращались в ручьи, оплывал грязью высокий яр,
из города потащило хлам, мусор, щепу, опилки, обрывки старых объявлений и
реклам.
Спеша укрыться в речном вокзале, бежал туда, светясь белью зубов и
придерживая нарядную фуражку, щеголеватый милиционер. За ним, не решаясь
оставлять власть на запятках, трусили бабенки с узлами, по ступеням вверх
кидал себя в кожаной корзине пристанской инвалид. Слизывая с губ мокро, он
чего-то кричал веселое, замешкался на лестнице, выдохшись, и одна женщина,
бросив пестренький узел, схватила за руку инвалида, потянула за собой,
перебрасывая со ступеньки на ступеньку влажно шлепающую корзину, что-то
озорное, бодрящее крича ему, а инвалид все так же по-детски, игровито
слизывал мокро с губ и норовил хапнуть бабу за мягкое место. Обе руки у него
были заняты: одной он толкался, за другую его перекидывала женщина, но он
все же уловил момент, щипнул бабу, за что целил, она взлягнула, завизжала,
милиционер и народишко, набившийся под крышу, хохотали, поощряя инвалида в
его вольностях. Передав кому-то фуражку, милиционер, оказавшийся с модной,
длинноволосой прической, выскочил под дождь, схватил мокнущий узел и помог
женщине перекинуть до нитки уже мокрого инвалида через порог вокзала.
Дышалось легко, смотрелось бодро. Всех в такой вот дождь, даже самых
тяжелых людей, охватывает чувство бесшабашности, дружелюбия, с души и тела,
будто пыль и мусор с земли, смываются наслоения усталости, раздражения,
житейской шелухи.
Мне вспомнился таежный поток: как он вздулся, наверное, как дурит
сейчас, ворочая камни, обрушивая рыхлый приплесок, и как, поныривая, крича
ярким ртом, кружится, плывет несомая им лилия, а ею покинутая необъятная
тайга из края в край миротворно шуршит под дождем, и распускаются заскорблые
листья, травы, мягчает хвоя, прячется, не может найти себе места от хлестких
струй проклятый гнус, его смывает водой, мнет, выбрасывает потоком в реку,
рыбам на корм.
Дождь не лил, дождь стоял отвесно над нами, над городком, над далекой
тайгой, обновляя мир. Возле деревянного магазина, обнявшись, топтались в
луже, пытаясь плясать, три пьяных человека, среди которых я узнал красавицу
эвенкийку. Нарядное полосатое платье под дождем сделалось болотного цвета,
облепило стройное, но уже расхлябанное тело девушки, мокрые волосы
висюльками приклеились к шее и лбу, лезли в рот. Девушка их отплевывала.
Мужиков, которые мешали ей плясать, она оттолкнула, и они тут же покорно
повалились в лужу. Дико крича, девка забесновалась, запрыгала, разбрызгивая
воду обутыми в заграничные босоножки ногами. Похожа она была на шаманку, и в
криках ее было что-то шаманье, но, приблизившись, мы разобрали: "А мы --
ребята! А мы -- ребята сэссыдисятой сыроты!.."
Связчик мой, "пана", понуро за мной тащившийся, мгновенно оживился,
заприплясывал на тротуаре, подсвистывая, раскинув руки, топыря пальцы,
работая кистями, пошел встречь красотке, словно бы заслышал ему лишь
понятные позывные.
-- Хана абукаль!
-- Харки улюка-а-аль! -- отозвалась красотка, сверкая зубами.
"Они поприветствовали друг друга", -- догадался я и попробовал
остепенить связчика, но он уже ничего не слышал, никому, кроме женщины, не
внимал. Продолжая выделывать руками и ногами разные фортели, цокая языком,
прищелкивая пальцами, "пана", точно на токовище, сближался с самкой,
чудилось мне, и хвост у него распустился, но из лужи приподнялся беспалый
бродяга и увесисто сказал: "Канай".
Продолжая прищелкивать пальцами, заведенно посвистывая, то и дело
оборачиваясь, запинаясь за тротуар, с большим сожалением "пана" последовал
за мной, уверяя, что, если бы он был один да без багажа, да не мокрый, да
при деньгах, он не отступил бы так просто, он бы...
Я не поддерживал разговора, и, вздохнув почти со всхлипом, Аким смолк,
однако чувствовал мое молчаливое неодобрение и через какое-то время принялся
подмазываться:
-- Ах, собаки! Собаки! -- сокрушался он. -- Забыли саранку! Сигов вот
не забыли! А саранку, такую хоросыньку, забыли! Сто мы за народ?!
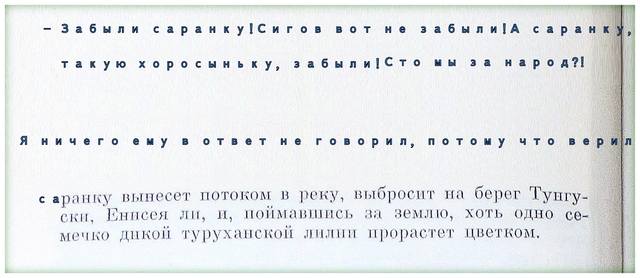 Я ничего ему в ответ не говорил, потому что верил: саранку вынесет Я ничего ему в ответ не говорил, потому что верил: саранку вынесет
потоком в реку, выбросит на берег Тунгуски, Енисея ли, и, поймавшись за
землю, хоть одно семечко дикой туруханской лилии прорастет цветком. Читать дальше ...
*** 
***
*** Старшой... Зимовка, Виктор Астафьев
*** Из книги (В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги
*** ... Из книги 02(В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги
*** Иллюстрации художника В. ГАЛЬДЯЕВА к повествованию в рассказах Виктора Астафьева "Царь-рыба"
*** Бойе 01
*** Бойе 02
*** Бойе 03
*** Капля 01
*** Капля 02
*** Не хватает сердца 01
*** Не хватает сердца 02
*** Не хватает сердца 03
*** Не хватает сердца 04
*** Дамка 01
*** Дамка 02
*** У Золотой карги 01
*** У Золотой карги 02
*** Рыбак Грохотало 01
*** Рыбак Грохотало 02
*** Царь-рыба 01
*** Царь-рыба 02
*** Летит чёрное перо
*** Уха на Боганиде 01
*** Уха на Боганиде 02
*** Уха на Боганиде 03
*** Уха на Боганиде 04
*** Уха на Боганиде 05
*** Поминки 01
*** Поминки 02
*** Туруханская лилия 01
*** Туруханская лилия 02
*** Сон о белых горах 01
*** Сон о белых горах 02
*** Сон о белых горах 03
*** Сон о белых горах 04
*** Сон о белых горах 05
*** Сон о белых горах 06
*** Сон о белых горах 07
*** Сон о белых горах 08
*** Сон о белых горах 09
*** Нет мне ответа
*** Комментарии
***

***
***
***
***
***
***
***
|