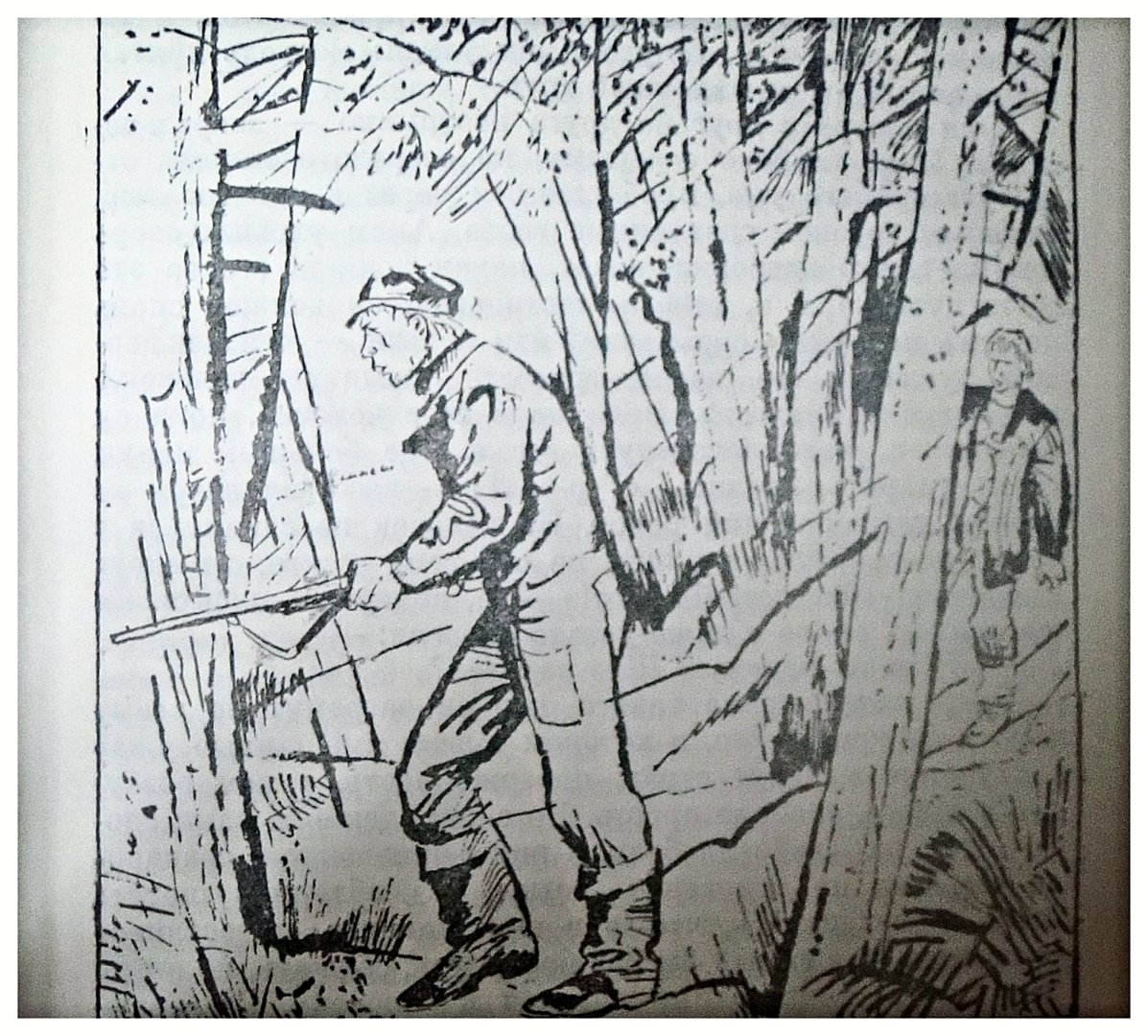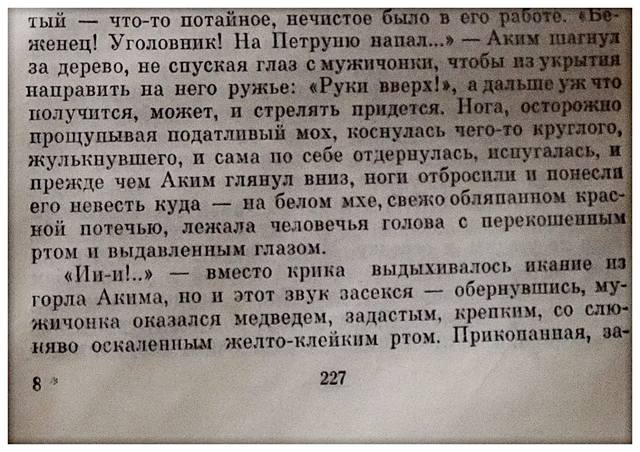*** 
***
Поминки
Тем летом Аким работал в геологическом отряде на притоке Нижней
Тунгуски Ерачимо -- числился водителем вездехода, а вообще-то слесарил,
гонял движок, был мотористом насосной станции, лебедчиком, заправщиком
буровых долот, словом, всего и не упомнишь, кем он был и какие работы
выполнял. Сам о себе он скромно сообщил: "На самолете, пана, ессе не летал.
Надо попробовать. Говорят, ниче особенного, толкай рычаг вперед, тяни назад,
как поперечную пилу..."
Помогал Акиму в разнообразных и необходимых в разведывательной работе
делах парень не парень, мужик не мужик, хотя было ему уже за тридцать, и
весь он Север прошел, по имени Петруня.
С Петруней делил Аким хлеб и соль пополам и в добавку отборные матюки,
которые они всаживали поочередно в вездеход, совершенно расхряпанный,
раздерганный, работавший на одной нецензурной брани и могучем железе. Им,
этим рукотворным "железным конем", Аким с Петруней били дороги в лесу,
очищали "фронты работы", вытаскивали севшие в болотах машины, один раз
вертолет из болота выволокли. Но, надорванная болотными хлябями и тайгой,
доведенная до инвалидности работавшими на ней летучими забулдыгами, машина
была в таком состоянии, что чем дальше в лес, тем чаще смолкал ее бодрый рык
и останавливалось наступательное движение.
Пнув "коня" в грязную гусеницу, сказав, что это не техника, а какой-то
"тихий узас", водитель с помощником отправлялись требовать расчет.
"Договорчик заключили? Денежки пропили? То-то", -- никакого расчета им не
давали.
Аким, дрожа голосом, кричал: "Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Как так,
понимас?" Петруня рвал на себе рубаху, пер татуированной грудью на
начальство, уверяя, что он никого и ничего не боится, потому что весь Север
и плюс Колыму освоил, но сломлен ими не был. И вообще судом его не
застращаешь: после суда его пошлют вкалывать тоже в экспедицию, только в
другую, где руководители поразворотистей, у них не забалуешься, и определят
его на машину, может, даже на новую, если нет машин, он киномехаником
заделается, не киномехаником, так бурильщиком, не бурильщиком, так
коллектором, не коллектором, так стропальщиком, не стропальщиком, так
лебедчиком, не лебедчиком, так...
На "ура" Петруню не взять и не переорать -- это знали все руководители
и потому давили главным образом на Акима, который судов побаивался, никогда
и ни за что не привлекался, в кутузках не сиживал. Начальство же всякое он
почитал и жалел. Кончалось дело тем, что Аким хватался за голову, восклицал:
"Удавлюся!" -- возвращался к "коню", чтобы трудом и изобретательностью
вдохнуть в его хладное железное чрево жизнь и повести за собой по новым
трассам и боевой дорогой отряд разведчиков земных и всяких других недр.
Петруня ругался на всю Эвенкию, обвиняя Акима в бесхарактерности, уверял,
что при таком поведении он долго на этом бурном свете не протянет, но
напарника не покидал, понимая, что тут, на Ерачимо, они как передовой отряд
на войне -- друг друга предавать не имеют права.
...Устав от ругани, криков, проклятий, ковырялись водитель с помощником
в машине, мирно уже помурлыкивая старинную песню здешнего происхождения:
"Вот мчится, мчится скорый поезд по туруханской мостовой", и неожиданно
услышали плеск, шлепанье, сопенье, подняли головы и обмерли: саженях в
двухстах, не далее, стоял в речке лось, жевал водяные коренья, и с его
дряблых губищ, с волос, висюльками вытянувшихся, и со всей изогнутой,
горбоносой морды капала вода, неряшливо валилась объедь.
Аким пал на брюхо и пополз к лагерю -- там у него ружье, расшатанное,
опасное с виду, но еще способное стрелять. Разведчики недр, узнав, в чем
дело, ринулись было полным составом за Акимом -- затощали на концентратах,
консервированном борще и кильках в томате, жаждали мяса, но больше зрелищ.
Аким приказал боевому отряду, состоявшему в основном из недавно
освобожденного элемента, ложиться наземь и не дышать. Лишь Петруне не мог
отказать Аким в удовольствии посмотреть, как это он, его, так сказать,
непосредственный начальник, друг и товарищ по боевому экипажу, будет
скрадывать и валить зверя.
Надо сказать, что жизнь зверя, в частности лося, по сравнению с
тринадцатым годом в здешних краях совсем не изменилась. На Калужском или
Рязанском шоссе добродушная зверина могла себе позволить шляться, норовя
забодать "Запорожца" или другую какую машину, либо являться в населенные
пункты и творить там беспорядки, на радость детям и местным газетчикам,
которые тут же отобразят происшествие, живописуя, как домохозяйка Пистимея
Агафоновна метлой прогоняла со двора лесного великана, норовившего слопать
корм ее личной козы.
В отдаленных краях, подобных Туруханскому или Эвенкийскому, лося
гоняют, словно зайца, норовят его употребить на приварок себе и на корм
собакам, другой раз на продажу и пропой. Оттого сохатые в здешней тайге
сплошь со старорежимными ухватками, всего больше надеются на слух, нюх да на
резвые ноги, а не на охранные грамоты.
В последние годы покой сохатого нарушился, правда, не только по
окраинам страны, по непролазным и ненадзорным дебрям, всюду нарушился, не
исключая лесов и околостолич- ных. Все тут законно, все образцово
организовано. Заранее приобретаются лицензии, заранее определяется район,
где не только водится зверь под названием сохатый, но и скотинка под
названием егерь, падкая на дармовую выпивку, столичные сигаретки и
свеженькие анекдотцы. Облик и сущность подобного холуя, как известно,
определил еще Некрасов, и он в сути своей не изменился, стал лишь
изворотливей и нахрапистей. "За стулом у светлейшего, у князя Шереметьева я
сорок лет стоял. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал, напитки
иностранные из рюмок допивал..."
Честный, уважающий себя егерь для охотничьих набегов, как правило, не
используется. Он с позором прогонит из лесу хоть какое высокое лицо, если
оно для забавы проливает кровь, пусть и звериную.
На трех-четырех "газиках" прибывают вооруженные до зубов любители
острых ощущений -- охотниками нельзя их называть, дабы не испакостить
хорошее древнее русское слово, а на опушке уж снежок отоптан, костерок
разведен, чаек какой-то редкостной пользительной травкой (чаще всего
обыкновенными прутьями малины) заправлен. "Чаек-то, чаек! -- чмокают
наезжие. -- А воздух! А снег! Разве в городе увидишь такой белый?" --
"Эх-х-ха-ха, дохнешь природой, морозцем подивишься, и вот как стиснет
ретивое, как потянет вернуться к родному крестьянскому крыльцу, зажить
здоровой, трудовой жизнью..." -- "Да-а, и не говорите! Родная земля, -- она
сильней магнита любого!.." -- "Да что там толковать? Еще Пушкин, а он-то уж
в жизни разбирался, гений был, четко и определенно выразился: "Хотя
разрушенному телу все одно где истлевать..." -- точно-то не помню, забылось,
ну, в общем, мысль такая, что на родной-то земле и почивать любезней..."
Словесная околесица эта -- своего рода лирическая разминка, отдых души
перед настоящим, опасным и захватывающим делом. Для бодрости духа и сугрева
выпили по стопочке, егерю стакан подали. Хлебнул в один дых, облизнулся
по-песьи, в глаза глядит, только что хвоста нет, а то вилял бы.
-- Потом, потом! -- машут на него руками небрежно. -- Нажрешься и все
испортишь!
Егерь понарошку обиду изображает, в претензию ударяется, он-де свое
дело и задачу понимает досконально, к нему-де и поважней лица заезжали, да
этаких обид не учиняли и авторитет не подрывали. И катнется лихо на лыжах
егерь к заснеженным лядинам, где дремлет вислогубый лось с табун- ком.
Сморенные чайком и стопкой наезжие стрелки которые на лабазы позабирались,
которые по номерам стали.
И застонал, заулюлюкал тихий зимний лес, красной искрой из гущи
ельников метнулась сойка, заяц, ополоумев, через поляну хватил, сороки
затрещали, кухта с дрогнувшего леса посыпалась, зверобои передернули затворы
многозарядных карабинов с оптическими прицелами, подобрались телом,
напряглись зрением. Шум и крики несутся из оскорбленного дикой матерщиной
девственно-чистого зимнего леса, и вот на поляну, тяжело ныряя в снег, качая
горбом, вымахал перепуганный, отбитый от табуна, затравленный, оглушенный
зверь и стал, поводя потными боками, не зная, куда бежать, что делать,
огромный, нескладный, беззащитный, проникшийся было доверием к человеку за
десятки охранных лет и вновь человеком преданный. Мокрыми поршнями ноздрей
лось втягивал, хватал воздух -- со всех сторон опахивало его запахами, коих
средь чистоплотных зверей не бывает, -- перегорелой водки, бензина, псины,
табака, лука. И замер обреченно сохатый -- так отвратительно, так страшно
пахнущий зверь никого и ничего щадить не способен: ни леса, ни животных, ни
себя. Ни скрыться от него, ни отмолиться от него, ни отбиться, давно уж он
открытого боя в лесу не принимает, бьет только из-за угла, бьет на
безопасном расстоянии. Утратилось в нем чувство благородства, дух дружбы и
справедливости к природе, ожирело все в нем от уверенности в умственном
превосходстве над нею.
Выстрелы! Бестолковые, лихорадочно-поспешные, чтоб выхвалиться друг
перед другом, и наконец один, не самый трусливый и подлый, выстрел ударил
пулей в большое сердце животного, изорвал его. Зверь с мучительной
облегченностью рухнул на костлявые колени, как бы молясь земле иль заклиная
ее, и уже с колен тяжело и нелепо опрокинулся, взбил скульптурно
вылепленным, аккуратным копытом, в щели которого застрял мокрый желтый мох,
ворох снега, хриплым дыхом красно обрызгал белую поляну, мучаясь, выбил яму
до кореньев, до осеннего листа и травки.
Катятся с лабазов зверобои, бегут по снегу, вопя, задыхаясь и завершая
какой-то, ими самими определенный ритуал или насыщая пакостливую жажду
крови, разряжают в упор ружья в поверженное животное.
...Однако отвлекся я, да еще в такой ответственный момент, когда
молодой и очень азартный человек, обдирая колени и локти о коренья и
валежины, порвав комбинезон и отпластав карман куртки, движется к цели,
чтобы добыть лося на еду работающим тяжелую работу людям.
Выглянув из-за своего разутого, раздетого "стального коня", боевой его
экипаж обнаружил, что сохатый не дожидался их, на месте не стоял. Он брел по
речке, жрал траву и по всем видам скоро должен был удалиться в мелкую
заостровку, которая кишела мулявой -- гальянами. Геологи иной раз забредали
туда, поддевали рубахой либо полотенцем муляву -- лапшу, варили ее, пытаясь
разнообразить пищу и расширить "разблюдовку" -- так в отряде просмеивали
свое меню. Трава в заостровке росла худая, от мути грязная, мохнатая.
Сохатый бросит жировать, подастся на свежье, а то и вымахнет на берег и
уйдет "домой" -- что ему, большому, свободному, ходи куда хочешь, а ты вот
попробуй его сыщи в таком широком месте, в такой захряслой, мусорной тайге,
сплошь забитой валежником, веретьем и хламом.
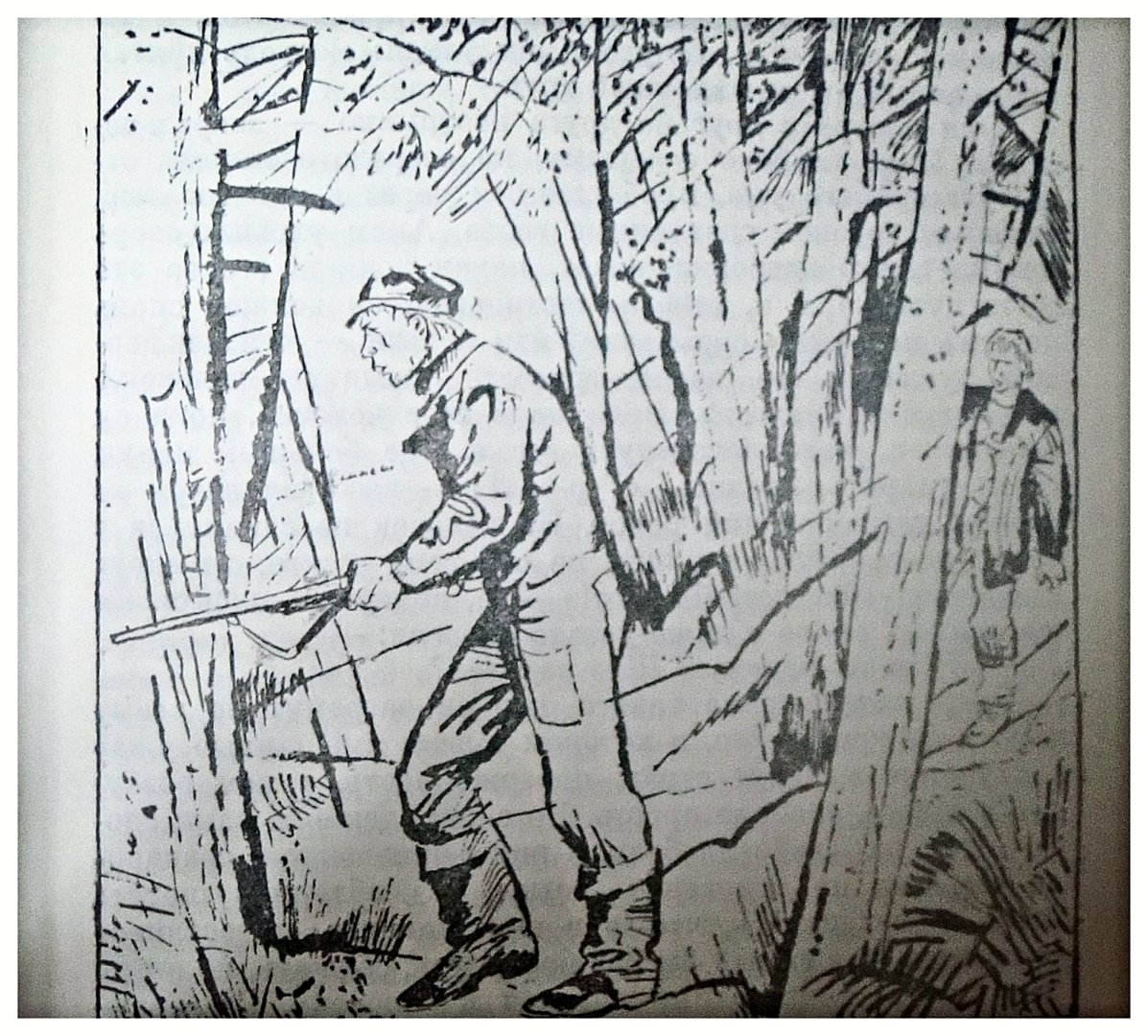 Аким пошел прыжками от дерева к дереву. Петруня за ним, но Аким Аким пошел прыжками от дерева к дереву. Петруня за ним, но Аким
передвигался бесшумно, заранее уцелившись глазом, куда поставить ногу,
Петруня же хотя и пытался быть тише воды, ниже травы, укротить в себе шумы,
запереть воздух, не трещать сучками, не раскашляться не мог, не получалось,
и все тут. Это уж всегда так, когда изо всех сил стараешься не закашлять,
непременно закашляешь и наделаешь шуму. Аким решил погрозить Петруне
кулаком, обернулся -- и чуть было не подкосились у него ноги -- соратник его
неузнаваемо преобразился: волосы вздыбились, рожу, черную от мазута,
охватило чахоточным жаром, страстью пылало лицо, дожигало глаза, сверкающие
беспощадным и в то же время испуганным пламенем. И понял Аким: Петруня хоть
и отбывал два раза срок за буйные дела, на самом деле человек робкий, может
быть, даже добрый, однако извилистые пути жизни все далее уводили его от
добродетели.
Задушевно выбухав кашель в ладони, Петруня вопроситель- но глянул на
связчика и покрался, как ему мнилось, кошачьи осторожно. Однако по мере
приближения к цели совершенно перестал владеть чувствами, воспламенялся в
себе самом, ноздри его шумно сопели, обсохший рот пикал чем-то -- икалось от
перенапряжения.
Аким знаком приказал Петруне остановиться -- никуда уже он не годился.
Сглотнув слюну, Петруня согласно кивнул головой и упал под дерево в мох.
Аким успел еще мимолетно подумать: не утерпит ведь, идолище, следом
потащится! Но было ему в тот миг не до соратника, переключив все внимание на
зверя, не отрывая взгляда от сохатого, он катился на спине по сыпучей
подмоине на берег, подобрался на карачках к приплеску и запал в таловой
коряге, выбросившей пучки лозин.
Стоя средь речки, сохатый поднял голову, подозрительно вслушивался,
дышал емко, и речка тоже вроде бы дышала: сожмутся бока -- убудет брюхо, и
из-под него с чурлюканьем катнется вода, набрякнет тело зверя, раздуется --
и вода, спрудившись, обтекает волосатую тушу, щекочет в пахах, опрядывает
грудь, холодит мышцы под шерстью. Губа сохатого отвисла, глаза притомлены,
но уши стоят топориком, караул несут. Дрогнули, поворотились раковинами
туда-сюда и снова замерли. Ни один мускул зверя не шевелится, глаз не
моргнет, губа подобралась, чует сохатый чего-то.
Для верности надо бы еще скрасть зверя саженей хоть пяток -- больно
запущенно, раздрызганно ружье, тот же Петруня бегал пьяный за народом,
жаждая уложить кого иль напугать, но его начальник -- "зук" тертый, заранее
спрятал патроны, и Петруня с досады саданул прикладом о ствол дерева. Какое
ружье выдюжит такое обращение? Пусть даже и отечественное, тульское, из
всего, как говорится, дерева и железа сделанное.
Вверху зашуршало, покатились комочки, засочился струей песок, стягивая
серые лоскутки мха. "Петруня, пентюх, крадется! Спугнет зверя..." Аким взвел
курки, поднял ружье к плечу, отыскивая мушкой левую лопатку лося, под
которой, темный от мокра, пошевеливался завал кожи, как бы всасываясь внутрь
и тут же вздуваясь тугим бугром -- мощно, ровно работало звериное сердце.
Задержав дыхание, готовый через мгновение нажать на спуск, Аким вздрогнул,
шатнулся оттого, что сверху, вроде бы как из поднебесья, обрушился на него
крик и не крик, а какой-то надтреснутый звук, словно повдоль распластало
молнией дерево, и в то же время это был крик, сырой, расплющенный ужасом. Не
слухом, нет, подсознанием скорее Аким уловил, после уж уяснил -- кричал
человек, и так может кричать он, когда его придавливает насмерть деревом или
чем-то тяжелым, и сам крик тоже раздавливается, переходит в надсадный хрип
не хрип, крехт не крехт, стон не стон, но что-то такое мучительное, как бы
уж одной только глубью нутра исторгнутое.
Выскочив из таловых сплетений, Аким успел еще с сожалением заметить,
как, взбивая перед собой воду, пароходом пер по речке сохатый к мелкой
заостровке, в мохнато клубящуюся на торфяной пластушине смородину и дальше,
в загородь перепутанного черемошного веретья.
Не опуская курков, с прилипшими к скобам ружья пальцами, Аким вымахнул
на яр, в редкую, пепельно-мглистую понизу суземь, неприветно лохматую от
сырых корост, сучковатую, ровно бы подгорелую, чуть лишь подсвеченную снизу
мхами. В ельнике он углядел копошащегося лохматого мужичонку -- тот что-то
рыл и забрасывал чащей. На мужичонке не было обуви, весь он злобно
взъерошенный и в то же время торопливо-деловитый -- что-то потайное,
нечистое было в его работе. "Беженец! Уголовник! На Петруню напал..." --
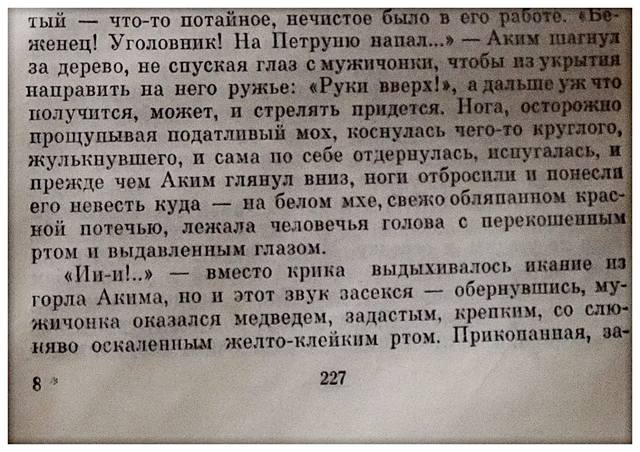 Аким шагнул за дерево, не спуская глаз с мужичонки, чтобы из укрытия Аким шагнул за дерево, не спуская глаз с мужичонки, чтобы из укрытия
направить на него ружье: "Руки вверх!", а дальше уж что получится, может, и
стрелять придется. Нога, осторожно прощупывая податливый мох, коснулась
чего-то круглого, жулькнувшего, и сама по себе отдернулась, испугалась и,
прежде чем Аким глянул вниз, ноги отбросили и понесли его невесть куда -- на
белом мхе, свежо обляпанном красной потечью, лежала человечья голова с
перекошенным ртом и выдавленным глазом. ...
"И-и-и!.." -- вместо крика выдыхнулось икание из горла Акима, но и этот
звук засекся -- обернувшись, мужичонка оказался медведем, задастым, крепким,
со слюняво оскаленным желто-клейким ртом. Прикопанная, закиданная чащею
добыча марала еще кровью мох, и по знакомой мазутной спецухе Аким узнал:
медведь прятал скомканный, обезглавленный труп.
Они смотрели друг на друга неотрывно -- зверь и человек. И по глубоко
скрытому, но сосредоточенному отсвету звериного ума, пробившегося через
продолговатые, тяжелым черепом сдавленные глаза, Аким уловил: зверь
понимает, что натворил, знает, какая должна его за это постигнуть кара, и,
чтобы спасти себя, он должен снова напасть или уйти, скрыться. Уйти нельзя
-- человек держит ружье, и его, зверя, трусость опамятует человека, придаст
ему смелости. Пока не в себе человек, пока он ошеломлен, надо повергнуть его
в еще больший испуг, затем ударить, свалить. "Р-р-рах!" -- выкатил зверь из
утробы устрашающий рокот. Но человек не сдвинулся с места, не закрылся
руками, не отбросил ружье, он вдруг взвизгнул: "Фасыст! Фасыст!" -- и,
поперхнувшись своим же криком, сипло и даже устало спросил:
-- Што ты наделал? Што наделал?
Зверь ждал крика такого, что он загремит по всему лесу, и от крика
того, в котором вместе смешанные ужас и отчаяние выдадут страх,
поверженность, в нем возбудится отвага, злобная ярость. Но слова, даже не
сами слова, а тон их, глубокая боль, в них заключенная, озадачили его, он на
мгновенье остыл, вздыбленная шерсть опала, пригладилась, что-то в нем
шакалье, пакостливое появилось -- в самый бы раз повернуть, сбежать, но
зверь уже молча, неотвратимо катился к человеку. Разгорающаяся в нем ярость,
предчувствие схватки и крови сгустившимся огнем опаливали звериное нутро,
слепили разум, спружинивали мускулы. На загривке и по хребту зверя снова
поднялась подпально-желтая шерсть. Медведь сделался матерей и зверистей от
уверенного, парализующего рыка, переходящего в устрашающе победный рев.
Аким выставил ружье, словно бы загораживаясь им, и, немея телом и умом,
с изумлением обнаружил, что в этого, вроде бы огромного, ощетинившегося
зверя некуда стрелять! Некуда! Лоб, в который так часто всаживают пули
сочинители, узок и покат -- пуля срикошетит от лба, если не угодить в
середку. Морда зверя узкая, с черным хрюком, но этой, вниз опущенной мордой
и узким лбом медведь сумел закрыть грудь. Возле морды, выше нее, пружинисто
катались, бросали зверя вперед могучие, как бы напрямую соединенные с телом,
лапы, закрывающие бока, и только горб со вздыбленной шерстью да кошачьи
хищно выгнутая спина доступны пуле, но, если не попадешь в позвоночник, тут
же будешь сбит, смят, раздавлен...
Рвя мягкие, неподатливые путы, связывающие руки и ноги, преодолевая
себя, Аким ступил за дерево, опять угодил ногой в голову и опять шарахнулся
оттуда, мимоходно отгадав: здесь, за деревом, медведь скрадывал лося, но
набрел Петруня, сам набрел, сгодился...
"Давай, давай!" -- как бы поощряя зверя, Аким шагнул навстречу. Зверь
сразу притормозил, приосел на толстый зад -- он не готов был к ответному
нападению, -- он видел, точно видел: человек хотел отступить, спрятаться за
дерево, человек боялся, он мал ростиком, косолап, бесцветен, что болотная
сыроежка, а зверь мохнат, вздыблен, отважен, свиреп. И вот человечишка попер
на него, на хозяина тайги, и зверь не выдержал, затормозился, приосел,
хапнув чего-то ртом, лапами, и тут же пружинисто выбросился вверх, всплыл, и
одновременно зверь и человек поняли, кто из них проиграл. Разъемист, широк
сделался медведь, слева, под мышкой пульсировал, кучерявился пушок, рокот,
катавшийся в нем, слабел, утихал, словно из опрокинутой железной тачки
высыпался остатный камешник. Поднявшись на дыбы, показав глубокую, бабью
подмышку в нежной шерсти, медведь означил свое слабое место, сам указал,
куда его бить, и, поправляя оплошность, он, как ему чудилось, рявкнул
устрашающе, на самом же деле по-песьи ушибленно взлаял и, уже расслабленный,
не бросился -- повалился на человека.
И тут же встречь ему харкнуло огнем, опалило пушок под мышкой,
проткнуло раскаленным жигалом сердце, рвануло, потрясло все тело и
хрустнувшие в нем кости. Заклубилась темнота в ненасытном чреве, повернуло
позвонки, мелькнуло, закипело перед глазами красное и зачадило отгаром
крови, чадом забивало мощный дых, застило взгляд, зверя повело на зевоту и
сон, отмякло туловище, лапы, все отделялось, погружая его куда-то в пустоту.
Сопротивляясь этой пустоте, не желая в нее валиться, медведь с не звериным,
скорее с коровьим мычанием взмахнул лапами, зацепил что-то и последним
проблеском сознания, глаз ли, захлестнутых красным, утихающим ли,
сверхчутким нюхом уловил ненавистный запах, лапами ощутил холод ружья.
Торжествующим ахом, остатками непобедимой злобы он еще возбудился,
попробовал взняться, бросить вверх когтистые лапы и разорвать, испластать
ими косолапенького, бесцветного, что гриб-васюха, человечишку и околеть
вместе с ним.
В броске настиг его последний вздох, перешедший в судорогу, от которой
тряхнулась, мучительно сжалась и тут же распустилась могучая туша и начала
сморенно успокаиваться. Еще подрагивали, пощелкивали друг о дружку черные,
как бы наманикюренные яркой краской когти, трепетала шерсть под правой
подмышкой, из-под левой все еще ключом выбивало кровь, и пока она
выбуривала, клокотала, не угасали у зверя глаза. Ярость, вековечная к
человеку ненависть горели в них и после, когда кровь иссякла, вяло уже
сочилась по шерсти, сгущаясь клюквенным киселем, оно так и не погасло, то
пламя ненависти, его не унесло в смертный мрак, оно закаменело в зрачках. В
полуоткрытые глаза медведя ровно бы кинуло ветром щепотку перетертой дресвы,
засорило их незрячестью, но зла не убило.
Все еще подрагивала, трепетала чуть заметно шерстка в беспомощной,
глубоко вдавленной подмышке зверя, а когти уже перестали щелкать, скрючило
их, и оскалились желтые, землей и красной кровью испачканные зубы.
"Все!" -- не веря себе и не воспринимая еще полностью того, что
произошло, подумал Аким и ощутил не ликование, не торжество, а жуть от того,
что видел, что совершилось, попятился, загораживаясь руками, открещиваясь от
всего этого, и внезапно услышал себя: "Ы-ы-ы!" -- выплясывали губы, слабели
колени, а рот, словно бы подковами заклепанный сверху и снизу, и язык в нем
не шевелились, не могли крикнуть, позвать людей. Крик тяжелой болванкой
выкатился тогда лишь, когда он снова натолкнулся на обезглавленный труп
Петруни, шарахнулся от него и чуть не запнулся за тушу медведя, плавающую в
темно-красной луже.
Аким полоумно топтался, вертелся на месте, точно запертый, окруженный
со всех сторон смертью. Но вот ноги совсем ослабели, и он упал лицом в
холодный мох, ожидая, как сверху сейчас навалится на него мохнатое, мокрое,
липкое чудовище.
В глубине хламного леса всегда прохладно, от прохлады стоит недвижная
сырь, не роса, росы тут не бывает, а пронзающая живую душу сырь, жаркой
порою обертывающаяся паром. И она, эта уже предосенняя, знобкая сырь,
обволокла, стиснула покрытое испариной тело Акима, заключенное в просторный
комбинезон. Аким приподнял голову, поискал взглядом зверя -- все правда, все
как есть, зверь никуда не девался, как лежал на спине в какой-то дурашливой
позе, прижав лапами ружье к груди, так и лежит. Аким утер рукой губы и
почувствовал на них соленое. Пальцы его, темные от мазута, под ногтями и на
козонках были в крови. Только теперь он обнаружил, что правая рука рассажена
с тыльной стороны до кости, и как была в кулаке, так и слиплась --
мимолетно, последним махом успел все же зверина достать охотника.
Взнятый с земли злостью и стыдом за свою слабость и страх, Аким
вывернул тонкую елку, ее корнем зацепил ружье за ремень и резко дернул,
забыв, что в одном стволе ружья заряд, а курок ружья поднят. Лапы медведя
шатнулись и выпустили ружье. Схватив ружье и разом получив от всех страхов
освобождение, Аким закричал, заплакал, ломал ногти, выдирал из патронташа
заряды и бестолково, мстительно бил в упор поверженного зверя, пулями,
дробью, картечью, но тот уже ко всему был равнодушен, ничто его не тревожило
-- ни боль, ни злоба, ни ненависть, лишь вдавливалась лункой шерсть в том
месте, куда угадывал заряд, смоляно дымилась жирная, толстая шерсть, вонькая
жидкость, повалившая из пробитой брюшины, глушила запах подпалины.
На крик и грохот прибежали люди. Отбросив ружье, Аким схватился за
голову и упал, лишившись чувств, как потом он объяснял, от потери крови, на
самом же деле -- от "тихого узаса".
При жизни своей Петруня доставил множество хлопот всяческим людям и
организациям, но то, что произошло после его столь оглушительной и
редкостной смерти, превзошло все мыслимые пределы. Случись такая фантазия
природы и проснись Петруня хоть на час, подивись вниманию, ему уделенному,
он бы, возможно, так зауважал себя, что и жизнь свою, и поведение
пересмотрел бы и в корне изменил.
Человек обезглавлен! "Кем?" -- докапывался молодой, очень бдительный и
настырный следователь, первый раз попавший в тайгу, да еще на такое
"редкостное" дело.
"Зверем". "Бывает, бывает, в следственной практике и не такие чудеса
бывают", -- поигрывая помочью, то ее оттягивая, то со щелком ее отпуская,
соглашался следователь, но попросил все же изолировать водителя вездехода в
отдельную палатку и вход снаружи застегнуть.
Томимый одиночеством, бездельем и страхом, Аким ожидал своей участи --
налетевший вертолетом, строгий, в себя углубленный человек в красивой форме
устанавливал доподлинность злодейства и всем в отряде задавал вопросы,
пугающие своей видимой простотой и оголенностью: "Были ль у водителя
столкновения с помощником? Не угрожали ль они расправой друг другу? Давно ли
соединили их жизненные пути? Судился ли раньше водитель и если судился, то
по какой статье?"
Медведем следователь почему-то не интересовался, на шкуру только
глазел. Шкура в отемнелых пробоинах, ровно в потухших звездах, распялена меж
дерев. В ней копошилась, прилипая к жиру, лесная тля, работали мураши,
черные козявки и вялые мухи. Туловище медведя, тоже все пулями
издырявленное, с неоснятыми лапами, привязанное проволо- кой за камень,
болталось в речке, и то, что стрелок укрыл медведя в воде, палил в него в
момент происшествия много раз, поверженного и опрокинутого, вселяло
особенную подозри- тельность. Заверения водителя о том, что палил он в
зверя, не зная почему и в реку его бросил "отмокать" -- не вонял чтобы
псиной, потом его сварят и съедят -- пусть помнит, как на людей бросаться --
укрепляло следователя в догадке: он имеет дело с матерым преступником,
"работающим" под простачка. Читать дальше ...
*** 
***
*** Старшой... Зимовка, Виктор Астафьев
*** Из книги (В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги
*** ... Из книги 02(В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги
*** Иллюстрации художника В. ГАЛЬДЯЕВА к повествованию в рассказах Виктора Астафьева "Царь-рыба"
*** Бойе 01
*** Бойе 02
*** Бойе 03
*** Капля 01
*** Капля 02
*** Не хватает сердца 01
*** Не хватает сердца 02
*** Не хватает сердца 03
*** Не хватает сердца 04
*** Дамка 01
*** Дамка 02
*** У Золотой карги 01
*** У Золотой карги 02
*** Рыбак Грохотало 01
*** Рыбак Грохотало 02
*** Царь-рыба 01
*** Царь-рыба 02
*** Летит чёрное перо
*** Уха на Боганиде 01
*** Уха на Боганиде 02
*** Уха на Боганиде 03
*** Уха на Боганиде 04
*** Уха на Боганиде 05
*** Поминки 01
*** Поминки 02
*** Туруханская лилия 01
*** Туруханская лилия 02
*** Сон о белых горах 01
*** Сон о белых горах 02
*** Сон о белых горах 03
*** Сон о белых горах 04
*** Сон о белых горах 05
*** Сон о белых горах 06
*** Сон о белых горах 07
*** Сон о белых горах 08
*** Сон о белых горах 09
*** Нет мне ответа
*** Комментарии
***
***
***
***
***
***
***
|