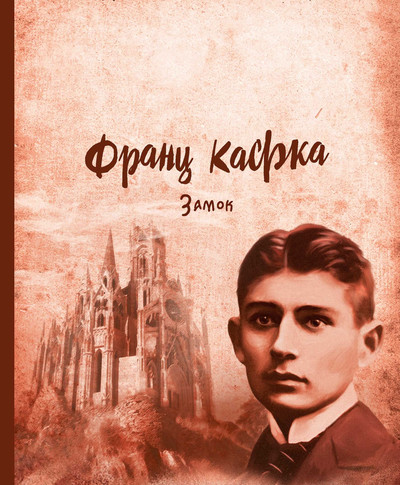*** 
***
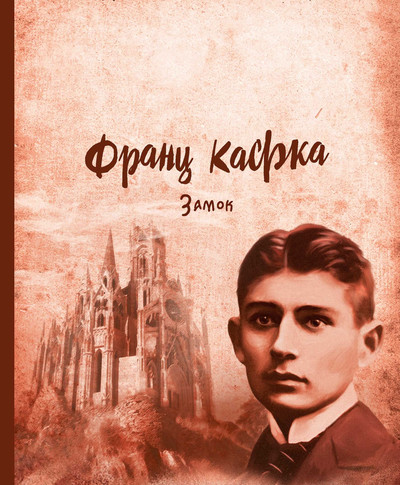
18. Наказание для Амалии
"Но вскоре на нас со всех сторон посыпались вопросы насчет письма,
стали приходить друзья и враги, знакомые и чужие, но никто не задерживался,
и лучшие друзья больше всех торопились распрощаться. Лаземан, обычно такой
медлительный и важный, вошел, как будто хотел проверить, какого размера наша
комната, окинул ее взглядом, и все похоже было на страшную детскую игру,
когда Лаземан стал уходить, а отец, отмахиваясь от обступивших его людей,
поспешил было за ним до порога и потом остановился. Пришел Брунсвик и
отказался от работы, сказал совершенно честно, что хочет работать
самостоятельно. Умная голова, сумел использовать подходящий момент.
Приходили заказчики, выискивали у отца в кладовой свою обувь, которую отдали
ему в починку; сначала отец пробовал отговаривать заказчиков -- и мы его
поддерживали, как могли, -- но потом он отступился и молча помогал людям
разыскивать обувь, в книге заказов вычеркивалась строчка за строчкой, запасы
кожи, сданные нам, выдавались обратно, долги выплачивались, все шло без
малейших пререканий, все были довольны, что удалось так быстро и навсегда
порвать отношения с нами, и даже если кто-то терпел убыток, это ни во что не
ставилось. И наконец, как можно было предвидеть, появился Зееман, начальник
пожарной дружины, вижу, как сейчас, всю эту сцену: Зееман, огромный,
сильный, но слегка сгорбленный, из-за болезни легких, всегда серьезный -- он
совсем не умел смеяться, -- стоит перед моим отцом, которым он вечно
восхищался и даже в дружеской беседе обещал ему должность заместителя
начальника пожарной дружины, а теперь пришел объявить, что дружина
освобождает его и просит вернуть диплом пожарника. Все, кто был в нашем
доме, побросали свои дела и столпились вокруг этих двух мужчин. Зееман не
может выговорить ни слова, только все похлопывает отца по плечу, будто хочет
выколотить из него те слова, какие он сам должен сказать, но найти не может.
При этом он все время смеется -- видно, хочет этим успокоить и себя, и всех
других, но, так как он смеяться не умеет и люди никогда не слышали, чтобы он
смеялся, никому и в голову не приходит, что это смех. А наш отец за этот
день уж так устал, так расстроился, что ничем помочь не может, и кажется,
что он до того утомился, что вообще не соображает, что тут происходит. И все
мы тоже были расстроены не меньше его, но по молодости мы никак не могли
поверить в полный крах, мы все время думали, что среди посетителей наконец
найдется человек, который прикажет всем остановиться и повернет все обратно.
Нам, по нашему недомыслию, казалось, что Зееман особенно подходит для такой
роли. С напряжением ждали мы, что сквозь этот непрестанный смех наконец
прорвется разумное слово. Над чем же и можно было смеяться, как не над
глупейшей несправедливостью по отношению к нам. Господин начальник, господин
начальник, думали мы, да скажите же вы наконец этим людям все, и мы
теснились поближе к нему, но от этого он только нелепо топтался на месте.
Наконец он все-таки заговорил, хотя и не для исполнения наших тайных
желаний, а повинуясь подбодряющим или недовольным возгласам окружающих. Мы
все еще надеялись на него. Он начал с высоких похвал отцу. Он назвал его
украшением дружины, недосягаемым примером для потомков, незаменимым членом
общества, чья отставка пагубно отзовется на дружине. Все было бы прекрасно,
если б он на этом закончил! Но он продолжал говорить. Если теперь члены
дружины все же решились просить отца, конечно временно, уйти в отставку, то
надо понять серьезность причин, заставивших их сделать это. Если бы не
блестящие достижения отца на вчерашнем празднике, дело не зашло бы так
далеко, но именно эти его блестящие достижения особенно привлекли к нему
внимание властей; теперь на дружину направлены все взгляды, и еще больше,
чем прежде, она должна охранять свою незапятнанную репутацию. Однако
случилось так, что обидели посыльного из Замка, и теперь дружина не нашла
другого выхода, а он, Зееман, взял на себя тяжкую обязанность объявить об
этом отцу. И пусть отец не затрудняет ему выполнение этой тяжелой
обязанности. И как же Зееман был рад, что наконец все выложил; в
уверенности, что все сделано, он отбросил излишнюю щепетильность и, указывая
на диплом, висевший на стене, пальцем поманил его к себе. Отец кивнул и
пошел снимать диплом, но руки у него так дрожали, что он не мог снять его с
гвоздя, тогда я забралась на стол и помогла ему. С этой минуты все было
кончено, отец даже не вынул диплома из рамки, а так целиком и отдал Зееману.
Потом сел в угол и больше не шевелился, ни с кем не разговаривал, так что мы
сами, как умели, рассчитались со всеми клиентами". "Но в чем же ты тут
видишь влияние Замка? -- спросил К. -- Пока что никакого вмешательства
оттуда не видно. Пока что по твоему рассказу виден только бессмысленный
страх людей, их злорадство по поводу неудач ближнего, ненадежность их
дружбы, а это встречается всюду. Твой отец, как мне кажется, проявил
некоторую мелочность: что такое, в сущности, этот диплом? Только
подтверждение его способностей, но их-то он не лишился. Если эти способности
сделали его незаменимым, тем лучше, и этот начальник попал бы в весьма
неловкое положение, если бы твой отец при первых же его словах просто
швырнул ему диплом под ноги. Но самым существенным мне кажется то, что ты
даже не упомянула об Амалии, а сама Амалия, которая все это наделала,
наверно, стояла спокойно в стороне и смотрела на все это опустошение?" "Нет,
-- сказала Ольга, -- упрекать никого нельзя, никто не мог поступить
по-другому, тут уже действовало влияние Замка". "Влияние Замка, -- повторила
Амалия, незаметно вошедшая со двора; родители давно легли спать. --
Рассказывает всякие сказки про Замок? Все еще сидите тут вместе? Ведь ты,
К., хотел сразу распрощаться с нами, а сейчас уже десятый час. Разве тебя
вообще волнуют все эти истории? Тут есть люди, которые такими историями
просто питаются, сядут рядком, вот как вы сейчас сидите, и угощают друг
дружку россказнями; но ты, по-моему, к таким людям не принадлежишь". "Вот
именно, -- сказал К., -- принадлежу, а люди, которых такие истории не
волнуют и которые предоставляют другим волноваться, меня никак не
интересуют". "Да, конечно, -- сказала Амалия, -- но заинтересованность у
людей тоже бывает разная, я слыхала об одном молодом человеке, который день
и ночь думал только о Замке, все остальное забросил, боялись за его
умственные способности, потому что все его мысли были там, наверху, в Замке.
Но в конце концов выяснилось, что думал он вовсе не обо всем Замке, а о
дочке какой-то уборщицы из канцелярий, наконец он заполучил ее, тогда все
стало на место". "Думаю, что этот человек мне бы понравился", -- сказал К.
"Сомневаюсь, чтоб этот человек тебе понравился, -- сказала Амалия, -- Вот
его жена -- возможно! Ну, не стану вам мешать, пойду спать, и огонь придется
потушить, из-за родителей: обычно они сразу засыпают очень крепко, но через
час настоящему сну уже конец, и тогда им мешает даже самый слабый отсвет.
Спокойной ночи!" И действительно, сразу стало темно. Амалия, очевидно,
постлала себе где-то на полу, поближе к родительской кровати. "А что это за
молодой человек, про которого она говорила?" -- спросил К. "Не знаю, --
сказала Ольга, -- может быть, Брунсвик, хотя ему это не совсем подходит,
может быть, и кто-то другой. Ее не так легко понять, потому что часто не
знаешь, с насмешкой она говорит или всерьез. Чаще всего она говорит
серьезно, а звучит как насмешка". "Оставь этот тон! -- сказал К. -- И как ты
попала в такую зависимость от нее? Неужели так уже было и перед всеми
несчастьями? Или стало потом? Разве у тебя никогда не бывает желания стать
независимой от нее? И наконец, имеет ли эта зависимость какие-то разумные
основания? Она ведь младшая, сама должна слушаться старших. Виновата она или
не виновата, но все несчастье на семью навлекла именно она. И вместо того,
чтобы изо дня в день просить прощения у каждого из вас, она задирает голову
выше всех, ни о чем не беспокоится, разве что из милости о родителях, не
желает, как она выражается, чтобы ее посвящали во все эти дела, а когда она
наконец удостаивает вас разговором, так хоть и говорит она серьезно, а ее
слова звучат насмешкой. Может быть, она забрала власть своей красотой, о
которой ты так часто упоминаешь? А ведь вы, все трое, очень похожи, однако
то, чем она от вас обоих отличается, во всяком случае говорит не в ее
пользу: уже с первого раза, как только я ее увидел, меня отпугнул ее тупой,
неласковый взгляд. А потом, хоть она и младшая, но по ее внешности это никак
не заметно, у нее вид безвозрастный, свойственный женщинам, которые хотя
почти и не стареют, но и никогда, в сущности, не выглядят молодыми. Ты
видишь ее каждый день, и ты едва ли замечаешь, какое у нее жесткое лицо.
Потому, если хорошенько подумать, я никак не могу принять всерьез
влюбленность Сортини; может быть, он этим письмом хотел ее только обидеть, а
вовсе не позвать к себе?" "Про Сортини я разговаривать не хочу, -- сказала
Ольга, -- от этих господ из Замка всего можно ожидать и самой красивой, и
самой безобразной девушке. Но во всем остальном насчет Амалии ты совершенно
ошибаешься. Пойми, у меня нет никаких оснований располагать тебя в пользу
Амалии, и если я пытаюсь это сделать, то только ради тебя же. Амалия
каким-то образом стала причиной всех наших несчастий, это верно, но даже
отец, который тяжелее всех пострадал от этого, он, никогда не умевший
выбирать слова и сдерживаться, особенно у себя дома, даже он в самые худшие
времена никогда ни единым словом не попрекнул Амалию. И не потому, что
одобрял ее поведение, -- разве он, такой поклонник Сортини, мог это
одобрить? -- он и отдаленно не мог ее понять: он бы охотно пожертвовал для
Сортини и собой, и всем, что у него было, правда, не так, как оно на самом
деле случилось, когда Сортини, вероятно, очень разгневался. Говорю
"вероятно", потому что мы больше ничего о Сортини не слыхали, и если он до
сих пор жил замкнуто, то теперь как будто его и вовсе не стало. Но ты бы
посмотрел на Амалию в те времена. Все мы знали, что никакого определенного
наказания нам не будет. От нас все просто отшатнулись. И здешние люди, и
весь Замок. Но если отчужденность здешних людей для нас, разумеется, была
явной, то о Замке мы ничего не знали. Ведь Замок не причинял нам раньше
никаких забот, как же мы могли заметить перемену? Но это молчание было хуже
всего. Совсем не то, что отчужденность здешних людей, они же отошли от нас
не по какому-то убеждению; может быть, ничего серьезного против нас у них и
не было, тогда такого презрения, как нынче, никто еще не проявлял, они
только из страха и отошли, а потом стали ждать, как все пойдет дальше. И
нужды нам пока что бояться было нечего, все должники с нами расплатились,
расчеты были в нашу пользу; если нам не хватало продуктов, нам тайком
помогали наши родичи, это было нетрудно, только что собрали урожай, правда,
у нас своего поля не было, а помогать в работе нас никто не звал, и мы
впервые в жизни были вынуждены почти что бездельничать. Так мы и просидели
всей семьей, при запертых окнах и дверях, всю июльскую и августовскую жару.
И ничего не случалось. Никаких вызовов, никаких повесток, никаких известий,
никаких посещений, -- ничего". "Ну, знаешь, -- сказал К., -- раз ничего не
случалось и никакое наказание вам не грозило, чего же тогда вы боялись? Что
вы за люди!" "Как бы тебе это объяснить? -- сказала Ольга. -- Мы ведь
боялись не того, что придет, мы уже страдали от того, что было, мы и теперь
жили под наказанием. Ведь люди в Деревне только того и ждали, что мы к ним
вернемся, что отец снова откроет мастерскую, что Амалия, которая прекрасно
шила платья, снова станет брать заказы, разумеется у самых знатных, ведь все
люди сожалели о том, что они наделали: когда такое уважаемое семейство вдруг
совершенно исключают из жизни в Деревне, каждый от этого что-то теряет, но
они считали, что, отрекаясь от нас, они только выполняют свой долг, мы на их
месте поступили бы точно так же. Они даже точно не знали, в чем дело, только
тот посыльный вернулся в гостиницу, держа в кулаке клочки бумаги. Фрида
видела, как он уходил, потом -- как он пришел, перекинулась с ним
несколькими словами и сразу разболтала всем то, что узнала, но опять-таки
вовсе не из враждебных чувств по отношению к нам, а просто из чувства долга,
на ее месте каждый счел бы это своим долгом. Но, как я уже говорила, людям
больше всего пришелся бы по душе счастливый конец всей истории. Если бы мы
вдруг пришли и объявили, что все уже в порядке, что, к примеру, тут
произошло недоразумение и оно уже полностью улажено или что хотя тут и был
совершен проступок, но он уже исправлен, больше того: людям было бы
достаточно услышать, что нам благодаря нашим связям в Замке удалось замять
эту историю, -- тогда нас наверняка приняли бы с распростертыми объятиями,
целовали, обнимали, устраивали бы праздники, так уже не раз на моих глазах
случалось с другими. Но даже и такие сообщения были не нужны; если бы мы
только сами вышли к людям, решились бы восстановить прежние связи, не говоря
ни слова об истории с письмом, этого было бы вполне достаточно, с радостью
все отказались бы от всяких обсуждений, ведь тут, кроме страха, всем было
ужасно неловко, потому от нас и так отшатнулись, чтобы ничего об этом деле
не слышать, ничего не говорить, ничего не думать, чтобы не иметь к нему
никакого касательства. Когда Фрида выдала все это дело, то сделала она так
не из злорадства, а для того, чтобы и себя, и других оградить от него,
обратить внимание всей общины, что тут произошло нечто такое, от чего надо
было самым старательным образом держаться подальше. Не мы, как семья, имели
тут значение, а наша причастность ко всей этой постыдной истории. И если бы
мы снова вышли на свет, оставили прошлое в покое, показали всем нашим видом,
что мы замяли это дело -- неважно, каким именно способом, -- и убедили бы
общественное мнение, что обо всей этой истории, в чем бы она ни заключалась,
больше никогда не будет и речи, тогда все могло бы уладиться, люди поспешили
бы нам навстречу с прежней готовностью, и даже, если бы та история и не была
окончательно забыта, люди поняли бы и это, помогли бы нам ее забыть. А
вместо этого мы все сидели дома. Не знаю, чего мы дожидались! Наверно,
какого-то решения Амалии; с того утра она захватила главенство в семье и без
особых обсуждений, без приказаний, без просьб, одним молчанием крепко за
него держалась. Правда, мы, все остальные, должны были о многом
советоваться, мы шептались с утра до вечера, а иногда отец, внезапно
испугавшись, подзывал меня к себе, и я полночи сидела на краю его кровати. А
иногда мы забивались в угол с Варнавой, который сначала очень мало понимал и
в беспрестанном запале требовал объяснений, всегда одних и тех же; видно, он
уже знал, что беспечной жизни, ожидавшей его сверстников, ему уже не видать,
и мы сидели вдвоем -- точно так же, как сейчас с тобой, К., -- не замечая,
как проходила ночь и наступало утро. Мать была самой слабой из нас, должно
быть потому, что она не только делила общее горе, но и страдала за каждого
из нас, и мы со страхом видели в ней те изменения, которые, как мы
предчувствовали, ждут всю нашу семью. Любимым ее местом был уголок дивана --
теперь этого дивана давно уже у нас нет, он стоит в большой горнице у
Брунсвика, -- она сидела там, и мы хорошенько не знали, спит она или, судя
по движению губ, ведет сама с собой бесконечные разговоры. Было вполне
естественно, что мы непрестанно обсуждали историю с письмом, вдоль и
поперек, со всеми известными нам подробностями и неизвестными последствиями,
и, непрестанно соревнуясь друг с другом, придумывали, каким путем
благополучно все разрешить, это было естественно и неизбежно, но и вредно,
потому что мы без конца углублялись в то, о чем хотели позабыть. Да и какая
польза была от наших, хотя бы и блестящих, планов? Ни один из них нельзя
было выполнить без Амалии, все это была лишь подготовка, бессмысленная уже
хотя бы потому, что до Амалии наши соображения никак не доходили, а если бы
и дошли, то не встретили бы ничего, кроме молчания. К счастью, я теперь
понимаю Амалию лучше, чем тогда. Она терпела больше нас всех. Непонятно, как
она все это вытерпела и до сих пор осталась жива. Может быть, мать страдала
за всех нас, столько напастей обрушилось на нее, но страдала она недолго;
теперь уже никак нельзя сказать, что она страдает, но и тогда у нее уже
мысли путались. А Амалия не только несла все горе, но у нее хватало ума все
понять, мы видели только последствия, она же видела суть дела, мы надеялись
на какие-то мелкие облегчения, ей же оставалось только молчать, лицом к лицу
стояла она с правдой и терпела такую жизнь и тогда, и теперь. Насколько
легче было нам при всех наших горестях, чем ей. Правда, нам пришлось
покинуть наш дом, туда переехал Брунсвик, нам отвели эту хижину, и на ручной
тележке мы в несколько приемов перевезли сюда весь наш скарб. Мы с Варнавой
тащили тележку, отец с Амалией подталкивали ее сзади; мать мы перевезли
прежде всего, и она, сидя на сундуке, встретила нас тихими стонами. Но я
помню, как мы, даже во время этих утомительных перевозок -- очень
унизительных, так как нам навстречу часто попадались возы с полей, а их
владельцы при виде нас отворачивались и отводили взгляд, -- помню, как мы с
Варнавой даже во время этих поездок не могли не говорить о наших заботах и
планах, иногда останавливаясь посреди дороги, и только окрик отца напоминал
нам о наших обязанностях. Но и после переселения никакие разговоры не могли
изменить нашу жизнь, и мы только постепенно стали все больше и больше
ощущать нищету. Помощь родственников прекратилась, наши средства подходили к
концу, и как раз в это время усилилось то презрение к нам, которое ты уже
заметил. Все поняли, что у нас нет сил выпутаться из истории с письмом, и за
это на нас очень сердились. Они правильно расценивали тяжкую нашу судьбу,
хотя точно ничего и не знали; они понимали, что сами вряд ли выдержали бы
такое испытание лучше нас, но тем важнее им было отмежеваться от нас
окончательно; преодолей мы все, нас бы, естественно, стали уважать, но, раз
нам это не удалось, люди решились на то, что до тех пор только намечалось:
нас окончательно исключили из всех кругов общества. Теперь о нас уже не
говорили как о людях, нашу фамилию никогда больше не называли, и если о нас
заговаривали, то упоминали только Варнаву, самого невинного из нас, даже о
нашей лачуге пошла дурная слава, и, если ты проверишь себя, ты сознаешься,
что и ты, войдя сюда впервые, подумал, что презрение это как-то оправданно;
позже, когда к нам иногда стали заходить люди, они морщились от самых
незначительных вещей, например от того, как наша керосиновая лампочка висит
над столом. А где же ей еще висеть, как не над столом, но им это казалось
невыносимым. А если мы перевешивали лампу, их отвращение все равно не
проходило. Все, что у нас было и чем мы были сами, вызывало одинаковое
презрение".
-------- Читать дальше ...
***
***...Замок 01... Из загадок книжного мира
*** Замок 02
*** Замок 03
*** Замок 04
*** Замок 05
*** Замок 06
*** Замок 07
*** Замок 08
*** Замок 09
*** Замок 010
*** Замок 011
*** Замок 012
*** Замок 013
*** Замок 014
*** Замок 015
*** Замок 016
*** Замок 017
*** Замок 018
*** Замок 019
*** Замок 020
*** Замок 021
*** Замок 022
*** Замок 023
*** Замок 024
*** Замок 025
*** 
***
***
|