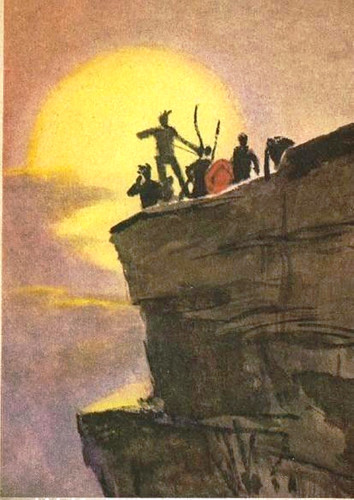***
***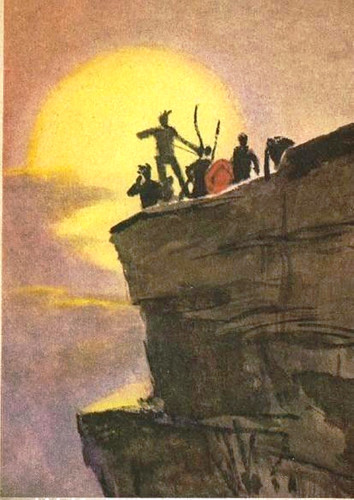
***
5. ПЕРЕХОД ДО РИО
Я остановился так подробно на этих первых неделях плавания потому, что
хотел по возможности обрисовать обстановку я условия, в которых медленно
развивалось мое душевное заболевание. Ибо весь мой рассказ, по существу
говоря, не что иное, как история психической болезни.
После пережитого мною надлома воли и помрачения памяти я думал, что это
была лишь неприятная случайность и мне удастся вполне оправиться. Я
согласился с мнением, что стоит мне порвать с Оксфордом и Лондоном и
начать новую жизнь - и все пойдет хорошо; но теперь на меня нахлынули
сомнения, и в бесконечно долгие часы бессонницы я пытался доискаться
причин обрушившейся на меня беды и делал всевозможные предположения.
На меня угнетающе подействовала перемена погоды, после Пернамбуку она
сильно испортилась, и к смятению мыслей и чувств присоединился чисто
животный страх. Казалось, стихии вступили в заговор с людьми и обрушились
на меня, подрывая во мне мужество и самоуверенность. Неужели я заболеваю
морской болезнью? Этого еще не хватало! Теперь я стану всеобщим
посмешищем.
Напрасно старался я отогнать эти мысли.
Чтобы подчинить себе непокорную диафрагму, я пробовал по-дилетантски
применять методы "христианской науки". Предвосхищая систему самовнушения
Куэ, я то и дело повторял: "Я не заболею морской болезнью! Я не заболею
морской болезнью!" А за обедом в тот же день решил, что заболеваю, и с
позором выскочил из-за качающегося стола.
Ночью шторм усилился. Каюта моя все сильнее качалась и скрипела, ее
подбрасывало кверху, швыряло из стороны в сторону; я чувствовал, что
корабль уже не может быть для меня твердым, надежным оплотом. Каюта
прыгала, металась, поднималась все выше и выше, но стоило мне примириться
с ее стремлением ввысь, как она, взвившись на дыбы, на мгновение замирала
как бы в задумчивости и стремглав летела в бездну. Или внезапно ложилась
набок. Корабль, как огромный штопор, ввинчивался в пучину. Потом он
прикидывался ярмарочными качелями. Затем новое превращение: он становился
лифтом, который испортился и летит вниз, проваливаясь в бездонный колодец.
Или - вагонеткой фуникулера, медленно совершающей головоломный спуск.
Тогда неприятные ощущения сменялись чувством нарастающего ужаса. Корабль
то и дело отчаянно встряхивало. Вспененная волна врывалась в каюту, как
заблудившаяся собака в поисках хозяина, металась из угла в угол,
промачивала все насквозь и убегала. Все неприкрепленные предметы прыгали
по каюте. Мои ботинки были подхвачены волной и унесены в море; я вывихнул
себе кисть руки и ушиб колено. Фляга с водой отделилась от стола,
ударилась об стену, разлетелась вдребезги, и ее осколки метались во все
стороны, грозя моим рукам и ногам. Пять суток прожил я в этом аду.
Мало-помалу я начал есть, хотя приступы тошноты все еще меня мучили. Я пил
горячий кофе все с большим удовольствием и жадно проглатывал хлеб, который
приносил мне Ветт.
Четыре или пять дней я провел у себя в каюте во время шторма, и обо мне
все позабыли, кроме Ветта, вездесущего стюарда, да как-то раз на минуту
заглянул второй помощник, и механик задал мне несколько вопросов, на
которые не получил ответа; эти дни встают в моем воображении как вихрь
смутных, мучительных загадок, которые, в сущности, угнетали меня и до и
после этого времени. Я ломал голову над этими загадками, метался и ерзал
по койке, а кошмарные образы неотвязно кружились передо мной. Меня и
тошнило, и хотелось есть. И только в отрывочных, бессвязных словах могу я
поведать обо всем, что происходило со мной.
Я старался осмыслить свое положение; корень зла, как мне казалось, был
в том, что я вступил в жизнь с величайшей верой в себя, в человечество, в
природу - и внезапно утратил эту веру. Я перестал верить в свои силы.
Чуждый всем своим ближним, я стал бояться их и теперь находился в
томительном разладе с окружающим меня негостеприимным миром. Я и понятия
не имел о своей слабости, о своем неумении приспособляться и защищаться, -
а тут как раз стихия и случай неожиданно ополчились на меня. Как ужасно
было это протекавшее в одиночестве путешествие; казалось, ему не будет
конца. С моей стороны было сущим безумием отправиться в море. Зачем, зачем
повернулся я спиной к своей настоящей среде? Зачем последовал совету
старика Ферндайка? Раньше я был счастлив; если и не был счастлив в полном
смысле этого слова, то, во всяком случае, успел приспособиться к своей
среде. Промокший до костей, изнемогая от качки, я метался по скачущей
козлом койке, то и дело увертываясь от своих вещей и мебели, которые
нахально бросались на меня, и с удивлением думал о том, что некогда мне
жилось хорошо и спокойно. Я ходил по твердой земле спокойными, уверенными
шагами и дружески улыбался звездам. Я вспоминал залитые солнцем холмы
Уилтшира и вечерние улицы Оксфорда, как нечто неправдоподобное, но
неизменно прекрасное. Неужели же все это было на самом деле? Да, к этому
миру, к благоустроенной жизни в центральной и южной Англии я был вполне
приспособлен. Я принимал необходимые в обществе условности, доверял людям,
жил добропорядочно, легко и уверенно чувствовал себя среди них. Мои
бедствия начались лишь после того, как я решительно порвал с этим миром. И
вот я все дальше и дальше отхожу от него!
Да, но разве можно назвать нормальным мое полное неумение
приспосабливаться?
Я припоминаю, как у меня в мозгу, подобно ритмическому качанию
маятника, размеренно звучали слова: "Нормально, ненормально, нормально,
ненормально, нормально?"
Вот, например, у нас на корабле я больше всех страдаю от морской
болезни. Интересно знать, испытывают ли другие это недомогание и тошноту?
Приходилось ли им раньше так страдать? А может быть, и они сейчас
страдают? Я присматривался к Ветту. А он-то вполне здоров? Он пошатывался.
Он ходил бледный, весь мокрый. Но добросовестно исполнял свои обязанности
и приносил мне кофе.
Меня непрестанно угнетало сознание своей полной непригодности к жизни,
но неужели никто из этих людей не испытывал такой мрачной подавленности?
Быть может, они грубее меня, более толстокожи?
Откуда такое недружелюбие? Неужели оно вызвано моей болезненной
застенчивостью, неумением сходиться с людьми? Или же это происходит
потому, что я не могу думать ни о чем, кроме постигшей меня катастрофы? Я
не знаю, умеют ли они действительно сходиться с людьми? Или, может быть,
они так же безмерно одиноки, как и я, только не сознают этого? Замечают ли
они, до чего они необщительны? Но если все они живут одиноко, то что же в
таком случае человеческое общество, как не иллюзия? В Оксфорде человек
говорит: "Добрый день!", "Как дела?", надеясь получить дружелюбный ответ.
Да полно, так ли это? Быть может, это нам только так кажется? И встречаешь
ли когда-нибудь сочувствие у людей? Вот, например, если теперь, утратив
юность, я вернусь домой, найду ли я прежний Оксфорд, и Уилтшир, и дружбу?
Да в конце концов дружба, связывавшая меня с Лайолфом Грэвзом,
обернулась против меня и оказалась такой же пустой, как и любовь. И если
весь этот привлекательный мир был только сном и я пробудился от сновидений
лишь для того, чтобы ошалело метаться среди кипящих вод, то что ждет меня
дальше?
Помнится, несколько дней меня била лихорадка, и в бреду я разговаривал
с Веттом. Но вот ветер стал быстро затихать, выглянуло ослепительно яркое
солнце и просушило палубу нашей железной посудины; треск и стоны корабля
обрели обычный ритм, тяжелые прыжки волн сменились мерной и плавной
пляской и постепенно перешли в тихую зыбь. Я почувствовал, что ко мне
вновь вернулись аппетит и силы. Ветт помог мне привести в порядок каюту, я
сбрил, морщась от боли, отросшую жесткую щетину, переменил белье, надел
чистый воротничок, повязал галстук и вышел к обеду.
- Возвращаетесь к жизни? - приветливо проговорил механик, не переставая
жевать. - Теперь вы знаете, что такое море!
- А вот как обогнем мыс Горн, так будет еще почище, - сказал старший
помощник.
- Хотите бобов? - предложил Ветт, протягивая консервную банку.
- С удовольствием!
До чего вкусные и сытные были эти бобы!
- У меня была книга, - начал механик, - где говорилось о силе прилива и
волн. Эта сила прямо-таки ужасна. В книге были вычисления. Правда, я их не
совсем понял, но цифры меня потрясли. Представьте себе, что если
использовать силу волны, можно построить огромную башню, пустить в ход все
поезда в Европе и осветить электричеством чуть не весь мир. И все это
пропадает даром! Ну, не чудо ли это?
- Не верьте этому, - сказал штурман.
- Ну, положим, с математикой не поспоришь, - возразил механик.
- Мы скользим по поверхности вещей, - сказал я, но, кажется, никто не
оценил моего замечания.
- А вот я знаю одно местечко возле Нью-Хэвена, где пробовали
использовать приливы, - с усилием выговорил третий помощник.
- И затея провалилась? - спросил старший помощник.
- Ни черта не вышло, сэр.
- Так я и думал, - отвечал старший помощник. - А зачем им понадобилось
использовать приливы?
- Не знаю, сэр!
- Они и сами того не знали, - с величайшим презрением отозвался старший
помощник.
Капитан не проронил ни слова. Он сидел неподвижно и глядел перед собой
в пространство. Лицо у него было бледное, жесткое и казалось еще более
свирепым, чем обычно. Белесые ресницы прикрывали его глаза. "О чем он
думает?" - недоумевал я.
- Рио! - вдруг проговорил он. - Рио!
Никто не ответил; да и что было отвечать? И он ничего не прибавил.
Несколько мгновений старший помощник глядел на своего товарища, слегка
прищурив один глаз, потом снова принялся за еду.
- Вы найдете в Рио сколько угодно матросов получше наших, - сказал
механик, очевидно разгадав мысли капитана.
6. МАШИНЫ ИСПОРТИЛИСЬ
Сначала мы прибыли в Рио, а затем Рио преспокойно вытолкнуло меня и
моих спутников в море, как это было в Пернамбуку; "Золотой лев" сильно
пропах кофе, ромом и какой-то растительной гнилью и поплыл дальше,
навстречу злоключениям и злодействам.
Отплывая из Рио, я находился в подавленном состоянии духа. Здесь я
чувствовал себя еще более одиноким, и мне еще труднее было найти
пристанище, чем в Ресифи. У меня не было никаких рекомендательных писем
хотя бы к таким лицам, как Андерсен; я поселился один во второсортной
гостинице и развлекался, как умел, - в сущности, весьма неумело. Меня
поразил этот большой и шумный город, тропическая растительность и
ослепительное солнце, широкий, красивый проспект, - я позабыл его
название, - своего рода Елисейские поля, восхитили бесконечные виллы и
чудесные пляжи.
Я сделал изумившее меня открытие, что у жителей Южной Америки имеются
курорты с горячими водами куда веселее нашего Брайтона или Борнемута. Спи
построили музей изящных искусств, где было великолепное собрание картин
современных художников, и я часами простаивал там. Очень помогли мне и
кинотеатры, большие, прекрасные кинотеатры. Это была золотая пора
кинематографии, когда без всякого шума и рекламы постоянно показывали
Чарли Чаплина. Люди здесь показались мне гораздо более счастливыми и
благоденствующими, чем у нас в Англии. Я не прочь был бы развлечься, но
находился в такой прострации, что ни с кем не сумел свести знакомства. У
меня были встречи с уличными женщинами, о которых лучше не упоминать.
Какой превосходной и благотворной могла бы стать профессия куртизанки,
если бы к ней относились с уважением и если бы эти женщины умели утешать
одиноких людей, прибегающих к ним! Но я не мог купить ничего, кроме
грубого хохота и неуклюжих попыток утолить желание. Я попробовал пить, но
после моих похождений в Норвиче у меня осталось смутное отвращение к
хмелю. Все мое существо теперь взывало к дружбе и жаждало близости. Я
бродил по этому богатому, великолепному городу и мучительно спрашивал
себя: найдется ли в этой толпе, казавшейся такой веселой и довольной,
человек, который сможет понять мою безумную жажду человеческого тепла? Или
же это просто сборище одушевленных масок, производящих впечатление
расположенных друг к другу людей? Эти мысли угнетали меня.
Во-первых, я не говорил по-португальски. Казалось бы, и без того много
всяческих перегородок между людьми, а тут еще незнакомый язык. Не раз я
слышал английскую речь и раза два видел довольно симпатичных
соотечественников, сначала - семейство из пяти человек, потом - чету
туристов, это были, как видно, новобрачные; я долго шел за ними по пятам,
наконец они обратили на это внимание, и я показался им подозрительным. Я
как-то бессмысленно тащился за ними, даже не пытаясь придумать предлога,
чтобы заговорить и чем-нибудь их заинтересовать. Мое одиночество приобрело
характер какой-то одержимости и сковывало меня на каждом шагу.
В конце концов, спрашивал я себя, что я могу дать этим людям? Ведь,
пожалуй, и сам я только маска. Мне еще нужно обрести человечность не
только в окружающем мире, но и в самом себе. Допустим, что эти приятные на
вид люди вдруг согрели бы меня лаской, пригласили бы позавтракать с ними
или пойти вместе на прогулку, заставили бы меня разговориться, - что
сказал бы я им? Чем бы я мог их занять и развлечь? Куда мы могли бы вместе
отправиться?
И вот мы, обитатели корабля, снова на своих местах. Нас повлекло назад
в море, как рабочего тянет на фабрику или горняка - в шахту, ибо некуда
больше пойти и нечего делать. Мы вернулись в нашу гремучую тюрьму и
поплыли через огромную гавань, направляясь в открытое море.
В этот вечер эпитет "гремучая тюрьма" весьма подходил к "Золотому
льву".
- Мистер Мидборо! - отважился я обратиться ко второму помощнику,
который случайно оказался около меня. - Наши старые часы как-то странно
тикают!
- Так и вы это заметили? - сказал он.
- Неужели что-нибудь случилось во время последнего шторма? - продолжал
я. - Мне казалось, что машины были не в порядке еще до прибытия в Рио.
Слышны были какие-то перебои, но не так отчетливо, как сейчас.
Он шагнул ко мне и задумчиво процедил сквозь зубы, словно обращаясь к
бразильским холмам:
- Старик упрям, как осел. Раз уж он сказал, что машины выдержат до
Буэнос-Айреса, так ему наплевать, что бы там ни говорил механик, ей-ей
наплевать.
- Да разве машины сами не говорят? - заметил я.
Мы перестали смотреть на берег и начали прислушиваться к прерывистому
ритму машин.
- Разваливаются к черту! Каждый толчок может нас доконать... Нам каюк?
Нет, еще плывем... Колесо погнулось. Прислушайтесь-ка! Машины прямо
плавают в масле. Да разве на масле далеко уедешь? А механик сидит себе да
книжки почитывает!
Я ждал дальнейших откровений.
- Послали каблограмму в Лондон, - продолжал он. - Капитан твердит свое,
а механик - свое. В Буэнос-Айресе встанем на ремонт. Капитан настаивает на
этом. И если погода не испортится - дело, пожалуй, выгорит.
Мистер Мидборо испытующим оком обвел горизонт. Он, видимо, не доверял
погоде.
- Есть такие люди, которые считают себя чуть ли не богами, - задумчиво
проговорил он. - Как Старик сказал, так и должно быть! А когда оно
оказывается не так, виноват кто угодно, хоть лысый черт, только не он. Он
все еще думает, что он бог, и ищет только, на ком бы сорвать свой
священный гнев.
7. РЕВОЛЬВЕР МЕХАНИКА
Еще до того как мы прибыли в Рио, я смутно ощущал, что у капитана
какие-то нелады с командой. Но я не обращал на это внимания, так как
напряженно, мучительно думал о своем. В Рио они поругались из-за выплаты
жалованья. Обращались даже в британское консульство. На улице раздавались
крики и брань, и пришлось вызвать полицейского.
- Старик здорово бушевал, ну да теперь, пожалуй, нам будет получше, -
сказал Рэдж, обращаясь к Мидборо, когда мы возвращались на пароход.
Я не стал задавать вопросов, да это, по правде сказать, меня и не
касалось.
Мидборо пробормотал что-то насчет засилья "итальяшек" у нас на корабле.
Присматриваясь к экипажу, я приметил одно или два новых лица, а
кое-кого из матросов недосчитался. Наше великолепное концертино, очевидно,
сошло на берег в Рио, да так и не вернулось.
Я спрашивал себя, уж не связана ли напряженная атмосфера в
кают-компании с недовольством, царившим на баке? Должно быть, капитан
привык воевать со своими матросами. Этот человек был всецело во власти
рутины, и ссоры с матросами были единственным развлечением, вносившим
разнообразие в его скучную жизнь.
Быть может, на каждом торговом судне между начальством и командой идет
своего рода классовая борьба. Но только после Рио я понял, что за мрачная,
зловещая фигура этот капитан; недаром мои попытки сблизиться с ним ни к
чему не привели.
Мне нужно было вернуть книгу о кооперативных молочных фермах в Дании со
статистическими таблицами и диаграммами, эту книгу механик рекомендовал
мне "для легкого чтения"; войдя в каюту, я увидел, что он держит в своей
мускулистой руке только что вычищенный револьвер, запас патронов был
аккуратно разложен на койке.
- Тяжеловатая у вас игрушка, - заметил я.
- Да это вовсе не игрушка, - буркнул механик.
- Но зачем вам заряжать его здесь? Ведь от людей и вообще от земли нас
отделяют добрые две сотни морских миль!
- В том-то все и дело, - сказал механик, словно раздумывая, стоит ли со
мной откровенничать, и, очевидно, решил промолчать.
- А вы прочли всю книгу насквозь? - спросил он через минуту-другую. -
Сомневаюсь. Вы скользите по поверхности жизни, молодой человек! Вы через
все перескакиваете. Я бы сказал, что вы порхаете, как мотылек. - Он
помолчал и, заметив, что я не свожу глаз с коротенького, отливавшего
синевой револьвера, зажатого у него в руке, добавил более мягко: - Уж этот
ваш Оксфорд! Какой от него толк! Наплодили на свет нарядных бабочек и
всяких там мошек. Летают, порхают и только портят вещи. А работать никто
не умеет. Это не университет, а какой-то инкубатор для насекомых.
- Я вашу книгу прочел до конца.
Он что-то недоверчиво пробурчал в ответ.
- Теперь я могу вам дать только книгу Робинзона "Функциональные
расстройства кишечника". У вас тоже есть кишечник, но станете ли вы читать
ее? Ведь нет!
- А вы пробовали читать романы, которые я вам давал?
- Достоевский не так уж плох. Все остальное дрянь. Достоевский
интересен в некоторых отношениях. Я перевел рубли и копейки, встречающиеся
у Достоевского, в шиллинги и пенсы. Некоторые вещи вдвое дороже, чем в
Лондоне, а кое-что чуть не втрое дешевле.
Он вложил последний патрон, щелкнул курком таинственного револьвера,
прислушался к неровному стуку машин и, словно прячась от меня, повернулся
к шкафчику, набитому подержанными книгами.
8. КРИК ВО ТЬМЕ
Я не знаю, что произошло в эту ночь, и до сих пор упрекаю себя за свое
равнодушие. Мне следовало вмешаться в это дело! Кажется, я уже говорил,
что страдал бессонницей и по ночам то и дело бродил по палубе. Но в эту
ночь я проснулся от выстрела. Может быть, это мне приснилось, после того
как я увидел револьвер механика. Этот звук был похож и на хлопанье троса.
Но мне стало как-то не по себе. Я сел на постели и стал прислушиваться,
потом наспех оделся и поднялся на палубу.
Пароход продвигался вперед, разрезая маслянистую, зыблющуюся
поверхность моря, волны разбивались у бортов, слабо фосфоресцируя, небо
покрыто было рваными облаками, сквозь которые порой проглядывала луна. Я
прошел на фордек. С минуту все казалось спокойным. Высоко надо мной,
неподвижная, как изваяние, маячила туманная фигура рулевого, тускло
освещенная луной. Впереди вырисовывалась другая фигура, еле различимая в
темноте и словно окаменевшая под качающимся фонарем. Потом мне почудилось,
что во мраке у передних люков происходит какая-то возня. Я скорее ощутил,
чем увидел, матросов, сгрудившихся на палубе у входа в кубрик, они
толкались и бурно жестикулировали. В то же мгновение я заметил двух
вахтенных, неподвижно стоявших в тени у неосвещенного входа на бак.
Внезапно послышался резкий крик, почти вопль, и голос, по-видимому
принадлежавший юноше, жалобно простонал:
- Ой-ой! Ради бога!
И тотчас же раздался грубый голос капитана:
- Будешь ты завтра работать как положено?
- Ладно. Если только смогу, Ой! Ой, ради бога! Буду! Буду!
Последовала пауза, которая показалась мне бесконечной.
- Отпустите его, - послышался голос старшего помощника. - Хватит с
него.
- Что? - прорычал капитан. - Да разве такую ленивую свинью когда-нибудь
проучишь?
Старший помощник понизив голос:
- Дело ведь не только в нем.
- Пускай хоть все соберутся! - рявкнул капитан.
- Помощник прав, - вмешался механик.
Капитан снова выругался.
Послышался звук, как от брошенного на палубу троса, вслед за тем -
всхлипывание, похожее на плач испуганного или больного ребенка. Я хотел
было кинуться вперед и вмешаться, но страх удержал меня. Я неподвижно
стоял в лучах луны. Опять все стихло. Затем штурман что-то вполголоса
сказал капитану.
- Он притворяется, - бросил капитан и тут же добавил: - Эй, вы там,
отнесите его на койку!
Раздался глухой звук, словно кого-то пнули ногой.
На баке замелькал свет фонаря, и я увидел движущиеся силуэты людей. До
меня донеслись приглушенные голоса.
- Я заставлю их слушаться! - прогремел голос капитана. - Пока мы в море
- я хозяин на корабле... А британский консул может убираться к черту!
Я увидел, как с палубы подняли какой-то неподвижный предмет, и он
тотчас же исчез в кубрике. Фигуры капитана, штурмана и механика четко
выделялись в розоватом свете фонарей; они стояли почти неподвижно, спиной
ко мне, слегка нагнувшись вперед. Механик заговорил, понизив голос, и в
его тоне мне почудился упрек.
- К черту! - яростно крикнул капитан. - Что, я не знаю своего дела?
Они направились в мою сторону.
- Здравствуйте! - воскликнул механик, заметив меня.
- Вот как, господин шпион? - сказал капитан, заглядывая мне в лицо. -
Подслеживаете за нами? А?
Я промолчал; да и что я мог ответить! Все трое прошли мимо меня на
корму.
Из глубины кубрика доносился какой-то грубый, хриплый голос. Время от
времени его прерывали другие голоса. По-видимому, никто из матросов не
спал в эту ночь.
Наверху рулевой, словно в полусне, поворачивал колесо. Вахтенный занял
свое обычное место, машины по-прежнему стучали в перебойном ритме. Плывшие
по небу в кольце радужного сияния разорванные облака и безмолвное, чуть
тронутое зыбью море, лениво отражавшее лунный свет, казались мне теперь
заговорщиками, соучастниками какого-то страшного злодеяния. Что же там
произошло? В долетевшем до меня крике звучала смертельная мука.
"Избили до смерти", - вдруг пронеслось у меня в голове; какие страшные
слова!
Я тихонько пробрался к себе в каюту и не мог заснуть до утра.
Неужели на этом свете ничего нельзя добиться, не прибегая к грубому
насилию?
9. ПОХОРОНЫ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
На следующее утро Ветт заметил вскользь, что один из матросов
"надорвался" и, кажется, умирает, а после второго завтрака, за которым все
угрюмо молчали, Рэдж сообщил мне, что матрос умер. Механика нигде не было
видно; он был внизу, у своих расхлябанных машин, не то я спросил бы его
кое о чем. Рэдж притворялся, будто не знает, отчего умер матрос. Неужели я
так и не доберусь до истины?
Какой-то длинный белый предмет лежал возле люка, и, подойдя, я различил
контуры окоченелого тела, закутанного в одеяло. Я остановился и минуты три
разглядывал его; несколько матросов, стоявших и сидевших около покойника,
при моем приближении замолчали и наблюдали за мной в каком-то загадочном
безмолвии. Мне хотелось расспросить их, но я не сделал этого, боясь
услыхать страшную истину или вызвать взрыв негодования.
Я чувствовал, что мне бросают вызов, но был не в силах ответить на
него. Подняв голову, я увидел, что капитан стоит на мостике и,
перегнувшись через перила, наблюдает за мной с явной враждебностью. Я
подошел к борту и стал размышлять, закрыв лицо руками. Пойти разве
расспросить матросов? Но хватит ли у меня смелости на это? Я решил сперва
поговорить с Веттом.
Ветт упрямо твердил свое: "Надорвался".
На следующий день погода, до тех пор пасмурная и теплая, начала
меняться. Мертвая зыбь усилилась, и поднялась качка. Вяло работавший винт
то и дело останавливался.
К вечеру мертвеца предали морю. Почти все, кроме кочегаров, механика и
трех подручных, работавших в машинном отделении, присутствовали на
церемонии, если это можно назвать церемонией. Зашитое в грубую парусину
тело было положено ногами вперед на две смазанных салом доски и прикрыто
запачканным красным флагом, но, против обыкновения, молитву читал не
капитан, а старший помощник. Казалось, капитан поменялся с ним ролью и
отдавал приказания, стоя в рубке. Помощник с минуту помедлил, потом
взглянул, правильно ли положено тело, поспешно вытащил молитвенник, бросил
взгляд на зловещее небо, словно спрашивая у него совета, и принялся читать
заупокойные молитвы. Читал он отрывисто, раздраженным тоном. Казалось, он
выражает протест против всей этой церемонии. Я встал у поручней, возле
Мидборо, держа в руке шляпу. Почти все обнажили головы. Капитан
по-прежнему оставался в рубке; сутулый, неподвижный, он поглядывал вниз,
как филин с дерева, а матросы стояли или сидели на корточках в угрюмом
молчании. Двое из них должны были столкнуть тело за борт.
Меня так взволновала эта трагическая сцена, что я не обратил внимания
на резкие перемены в атмосфере. На время я совершенно забыл о погоде. Лица
у всех приняли какое-то зловещее выражение, чувствовалось, что надвигается
беда, - и мне стало ясно, что это связано с печальным событием,
происшедшим во мраке. Нависло гнетущее молчание. Казалось, вот-вот
раздадутся упреки и обвинения. Угрозы готовы были сорваться с уст
матросов. Что-то будет? За пределами власти жестокого капитана, на суше,
нас ожидала власть закона, нудная процедура следствия и неясный исход
дела. Начнутся допросы, свидетельские показания, лжесвидетельства, а
затем, может быть, последует несправедливый приговор. Интересно, что
скажет тогда хотя бы старший помощник, который поспешно бормочет молитвы?
О чем будут спрашивать механика? Пойдут ли эти люди на ложь, чтобы спасти
себя и капитана? И вся эта тайна никогда не выйдет наружу? Что именно
видели матросы? Знают ли они что-нибудь определенное или же им пришлось
только догадываться? Может быть, они сообща сочинят какую-нибудь сказку?
Кто узнает о трагедии, разыгравшейся на корабле в ту темную ночь? Да и
можно ли докопаться до правды? Допустим, меня призвали бы к ответу, - что
бы я мог, собственно, показать? И выдержу ли я перекрестный допрос?
Старший помощник продолжал бормотать молитвы. Тут только я смутно
почувствовал, что мрачное волнение окружающих перекликается с
надвигающейся грозой. Покамест он читал, - а читал он плохо, не делая
остановок на знаках препинания, - за его спиною вздувались волна за
волной, они медленно вырастали, поднимались над его головой и
проваливались в бездну, и тогда одинокая фигура старшего помощника четко
выступала на фоне туч.
Вдруг я заметил, что небо как-то странно побелело, стало почти
ослепительным. Я понял, что на нас несется шторм. Корабль швыряло во все
стороны. Я обвел глазами небосвод. О ужас! Огромная свинцово-синяя туча с
лохматыми, крутящимися краями тяжело наползала, закрывая небо. На моих
глазах эти растрепанные края превратились в чудовищные когти и вцепились в
солнце, а водное пространство залил зловещий медный блеск. Палуба
погрузилась в холодную темноту. Все люди и предметы казались тоже черными,
как чернила. Зато небо с подветренной стороны посветлело, стало еще белее
и ярче.
Все стоявшие на палубе перевели взгляд с мертвеца, распростертого на
досках, на черный балдахин туч, который злые духи вот-вот обрушат на нас.
Старший помощник взглянул на небо, перевернул страницу и загнусавил еще
быстрее, проглатывая слова; капитан что-то крикнул в машинное отделение.
Замолчавшие машины через минуту снова прерывисто застучали.
- Да ну, кончайте же! - глухо бросил Мидборо.
Вдруг раздался адский грохот, словно ударили сразу в тысячи литавр; я
увидел, что помощник, не выпуская молитвенника из рук, подает знаки
матросам, стоявшим около покойника. Теперь уже невозможно было расслышать
слова молитвы. Палуба накренилась навстречу огромной желтовато-зеленой
волне, величиной с доброго кита, и белый кокон, жалкая оболочка того, кто
еще недавно был живым человеком, соскользнул с доски и стремглав полетел в
тусклую водяную пучину; в следующий миг борт закрыло от меня море.
Помощник, медленно поднимавшийся кверху, дочитывал последние слова
молитвы, но его уже никто не слушал - все лихорадочно принялись за работу,
готовясь встретить шторм.
Как удары бича, по палубе захлестал град. Я бросился к ближайшему трапу
и едва успел добраться до него, как раздался короткий сухой удар, похожий
на выстрел.
Мелькнула фигура помощника, без шапки, с раскрытым молитвенником в
руках, он шатался, как пьяный; тут меня сбросило толчком в люк, я скатился
по трапу и чуть не ползком стал пробираться к себе в каюту.
10. ШТОРМ
К этому времени я уже несколько привык к причудам океана и теперь уже
более стойко переносил шторм. В начале плавания я страдал морской
болезнью, но интеллект мой не был затронут, и я достаточно точно могу
восстановить все события.
Во всех моих воспоминаниях неизменно играет роль разъяренный капитан.
Странное дело: только теперь, когда он стал впадать в бешенство, я
начал понимать этого человека! Так по крайней мере мне помнится, хотя
возможно, что я постиг его характер несколько позже. Вначале он казался
мне олицетворением зла и низменных качеств. Он вел отчаянную борьбу с
жестоким миром, бессознательно утверждая свою волю, и потерпел поражение.
Подобно мне, он вступил в жизнь полный надежд и далеко простиравшихся
туманных желаний, мечтал упиваться всеми благами жизни, но судьба упорно
ему в этом отказывала. Как необузданны были его аппетиты! Как пламенно
верил он в свой успех! А жизнь безжалостно указывала ему его место,
заставляя тянуть лямку капитана торгового судна, быть вечно озлобленным
начальником столь же ожесточенных и пришибленных жизнью людей, хозяином
ветхого суденышка, которого он явно стыдился. Он ненавидел свой корабль;
он с удовольствием вывел бы его из строя. Он негодовал на владельцев этого
корабля за то, что был у них в подчинении, и еще больше бы их ненавидел,
если бы они не взяли его на службу. Он презирал свои обязанности,
сводившиеся к перевозке в Бразилию стенных часов, швейных машин и готового
платья; кофе, сахар, папиросы и хлопок он доставлял в Аргентину, а оттуда,
с остатками британских товаров и всякой дребедени, направлялся в другое
полушарие. В сущности, если пренебречь расстоянием и опасностями, наш
капитан немногим отличался от какого-нибудь ломовика, а другие счастливцы
тем временем разгуливали по суше, командовали и господствовали и
наслаждались всеми земными благами. Он неохотно выполнял свои скучные
обязанности и при этом делал отчаянные усилия поддерживать свое
достоинство. Он хотел быть неограниченным властелином в этом своем
маленьком царстве. А матросы не желают его слушаться! Какой-то никчемный
высокомерный юнец смеет над ним насмехаться за общим столом! Машины тоже
вышли из повиновения. Погода издевается над его предсказаниями. Будь они
все прокляты! Провались они в тартарары!
Погода обманула его. Он рассчитывал благополучно добраться до
Буэнос-Айреса, прежде чем изменится ветер. Он обозвал механика олухом и
вывел корабль из безопасной гавани Рио в открытое море. И вот за
какие-нибудь два дня пути до Буэнос-Айреса погода испортилась.
Жизнь сделалась прямо невыносимой для капитана, в эти дни он испытывал
горькое разочарование, в ярости метался по каюте, как дикая кошка,
попавшая в тенета.
Неожиданно я увидел капитана, он шел по среднему проходу вместе с
механиком, они возбужденно о чем-то спорили.
- Я уже говорил вам, что не могу за них отвечать, - оправдывался
механик. - Это нужно было сделать в Рио.
Капитан проклинал так внезапно налетевший шторм. Он кричал, бранился и
грозил небу кулаком. Механик скорчил гримасу и пожал плечами.
Я отскочил в сторону, но корабль внезапно накренился, и меня бросило
прямо под ноги капитану. Лицо его исказилось сатанинской злобой, он ударил
меня кулаком и отшвырнул к двери. Я был ошеломлен и сознавал свое
бессилие. Так велик был престиж командира, что я не осмелился дать ему
сдачи. Капитан с механиком проследовали дальше на корму, а я побрел,
пошатываясь, к себе в каюту.
Корабль то зарывался носом в волны, то становился на дыбы, сражаясь с
водяными громадами. Прошло несколько минут, - а может быть, и часов, - как
вдруг раздался металлический грохот, лязг и скрежет, и мы поняли, что
машины вышли из строя. Это не было неожиданностью. Экипаж был давно готов
к такому удару. Помнится, даже не было особого волнения, все приняли это
стоически, как некую неизбежность. Все давно ждали этой катастрофы;
удивительно только, что она не произошла еще раньше. Удивительно, что мы
до сих пор еще плыли в этом бушующем хаосе.
Я мельком видел механика: весь мокрый, с измученным, но все еще
бесстрастным лицом, хватаясь за стенки, он пробирался к себе в каюту. Ему
больше нечего было делать. Да и вообще больше нечего было делать,
приходилось лишь то и дело откачивать воду, заливавшую судно. После
катастрофы с машинами корабль окончательно потерял курс. Мы сделались
игрушкой волн. Нас немилосердно швыряло из стороны в сторону. Порой мы
попадали в боковую качку. Это была временная передышка, и мы напоминали
гарнизон крепости, который сдался в плен и ожидает, что его вот-вот
перебьют. Наш корабль, как щепка, носился по прихоти волн. Они словно
сговорились нас опрокинуть не с носа, так с бортов. Мы уже больше не
боролись. Не смотрели опасности в глаза. Волны яростно хлестали корабль,
порой перекатывались через палубу, и тогда становилось темно, как ночью.
Мы были побеждены. Корабль то проваливался в какую-то темную ревущую
бездну, то вновь поднимался на свет божий.
Может быть, корабль дал течь?
На следующее утро я выбрался из каюты, чтобы раздобыть чего-нибудь
поесть. Встретил Рэджа, направлявшегося в камбуз, и мы прокричали друг
другу несколько слов.
- Неужели корабль дал течь? Кажется, нет, - нас только заливают волны,
перекатываясь через борт.
- Воды еще не так много, с ней можно справиться, - бросил Рэдж, -
только бы обшивка выдержала.
Делать было нечего, оставалось покориться судьбе. В те дни
беспроволочный телеграф еще не получил распространения, и мы не могли
подать сигнал бедствия. Мы были затеряны в океане; быть может, мы случайно
встретим какое-нибудь судно, и оно нас подберет? Или корабль разобьется о
скалы и будет выброшен на берег? Или мы попросту потонем? Если не встретим
помощи, мы будем носиться по волнам, пока не стихнет шторм, а потом начнем
дрейфовать.
Таково было мнение Рэджа.
Наш кок каким-то чудом ухитрился развести огонь и сварить очень вкусный
и питательный суп из мясных консервов. Суп издавал острый запах лука.
Матросы один за другим пробирались в камбуз, борясь с окатывавшими их
волнами, каждому хотелось получить свою порцию этой лакомой еды. Все ели
из общей миски и то и дело валились друг на друга. Кричали: "Эй, ты,
потише! Чего не держишься?" Всякий этикет был забыт.
Но когда внезапно в дверях камбуза показался капитан, в мокром
клеенчатом комбинезоне, с серыми от морской соли ресницами, и ухватился за
косяк, повернув к нам искаженное яростью, неподвижное, как маска, лицо, -
все мигом расступились; двое матросов поспешили уйти из камбуза, а Ветт
подал ему отдельную миску.
Никто не осмелился заговорить; капитан что-то бормотал себе под нос и
ругался. Я стоял возле него, грызя галету, и слышал, как он сказал:
- Мы доберемся до Буэнос-Айреса, говорю вам! Мы до него доберемся или,
клянусь богом...
- Это одному богу известно, - процедил сквозь зубы механик.
- Эти свиньи опять шатаются без дела! А? - прорычал капитан,
уставившись на нас пронзительными, злыми глазами. - Погодите вы у меня,
вот только стихнет ветер!..
Но прошло четыре или пять дней - не знаю, сколько именно, ибо я потерял
всякое представление о времени, - а ветер все не спадал. Большей частью мы
сидели каждый у себя в каюте, изредка бродили по коридорам или с
отчаянными усилиями пробирались по скользкой палубе по колено или по пояс
в воде. Нас бросало во все стороны. Мы ударялись о вещи, о стены кают.
Один раз мне показалось, что я повредил себе ребра, и я добрых полчаса
ощупывал бока, делая глубокие вдохи и выдохи.
Между тем кок продолжал творить чудеса, угощая нас горячей едой, чаще
всего кофе. В промежутках мы жили надеждой. Чтобы добраться до камбуза,
приходилось отчаянно пробиваться сквозь бурлящие волны. Иной раз мне так и
не удавалось туда пробраться. Оглядев палубу, то и дело превращавшуюся в
пенистый водоворот, и убедившись, что по дороге не за что ухватиться, я
отступал. Я припрятал у себя в каюте жестянку с галетами и питался ими, но
сильно страдал от жажды. Казалось, соль оседала кристаллами у меня на
губах, вкус ее постоянно преследовал меня, и я чувствовал позывы к рвоте.
И сейчас я думаю, что все на корабле были близки к голодной смерти. Мы
промокли до костей. Все тело было в синяках и ныло от ушибов; это были дни
отчаянной борьбы за жизнь, когда волны одолевали нас и корабль, казалось,
хотел вышвырнуть нас в океан. Я видел, как один матрос в полном отчаянии
бросился было вниз по накренившейся палубе, но другой, держась рукой за
поручни, схватил его за шиворот и, когда корабль покачнулся в другую
сторону, швырнул товарища в безопасное место.
Однажды мне пришлось увидеть нечто совершенно невероятное. К нам на
корабль попала огромная акула. Поднялась гигантская зеленовато-оливковая,
остроконечная, как горный пик, волна, нависла над нами, яростно шипя и
встряхивая развевающейся гривою, потом всей громадою обрушилась на палубу.
Я приютился под капитанским мостиком и чувствовал себя в относительной
безопасности. Казалось, вот-вот эта волна расколет корабль пополам и
сбросит всех нас в пучину. Вода со свистом хлестала меня по ногам, прыгала
все выше, тычась мне в колени, как расшалившийся терьер. Палуба исчезла
под волнами, кроме фордека и запертого входа в кубрик.
Потом из воды стала медленно выступать средняя часть палубы, вся в
завитках крутящейся пены, - и вдруг появилась огромная белобрюхая рыба,
она катилась по палубе, то сгибаясь дугой, то вновь распрямляясь и щелкая
пастью; напоминала она гигантский взбесившийся чемодан. Она была куда
больше человека. Рыба свирепо ударяла хвостом и бросалась из стороны в
сторону, оставляя на палубе сгустки слизи, которые тотчас же сдувало
ветром. Брюхо у нее было в крови. Корабль, казалось, с минуту был
ошеломлен появлением этого нового пассажира, потом отчаянным усилием
вышвырнул его вместе с клочьями пены за борт, словно возмущенный этим
наглым вторжением.
Я видел это собственными глазами.
*** Читать далее ...
*** 01
*** 02
*** 03
*** 04
*** 05
*** 07
*** 08
*** 09
*** 10
*** 11
*** 12
*** 13
*** 14
*** 15
*** 16
*** 17
*** 18
*** http://lib.ru/INOFANT/UELS/blettswo.txt
*** Писатель Герберт Уэллс
***




***
***
***
***
***
***
|