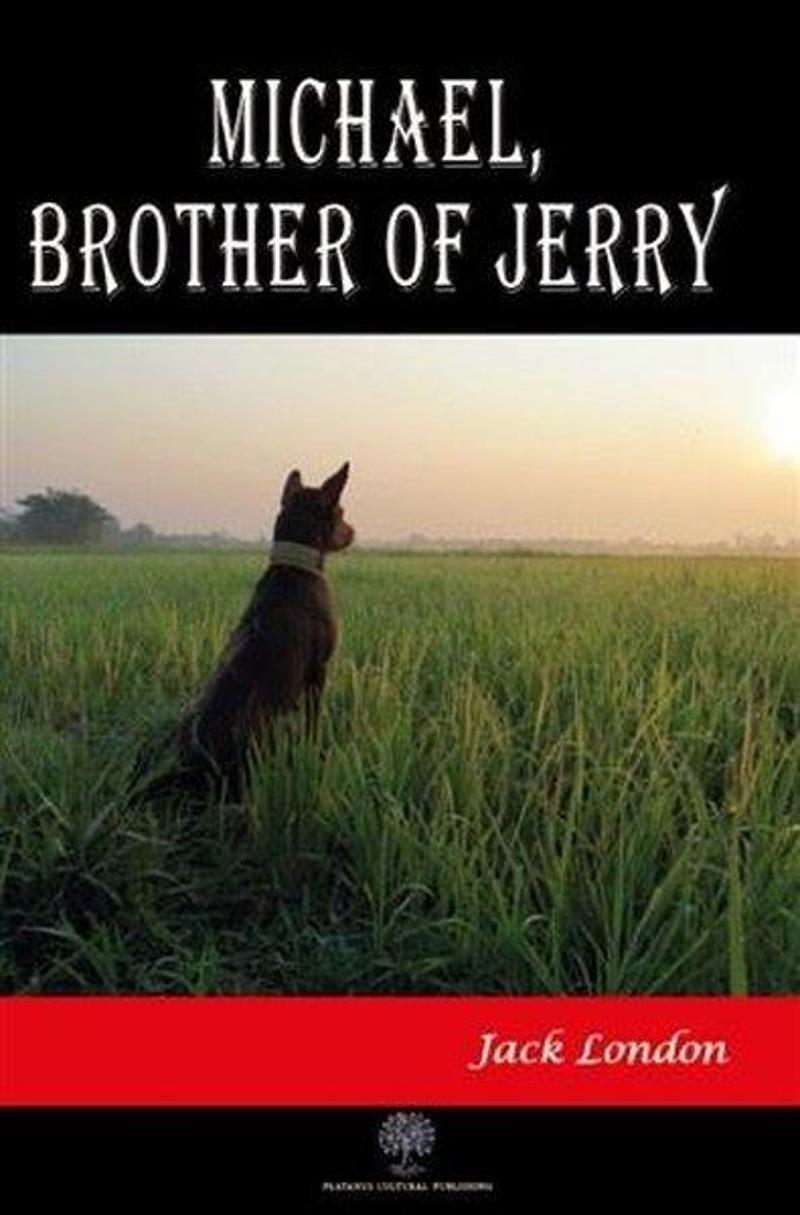20:14 Майкл, брат Джерри . Джек Лондон. 011 | |
|
*** === ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ — Я вам его, можно сказать, задаром отдаю, — сказал Коллинз. — Через полгода вы не согласитесь продать его и за пять тысяч, или я ничего не смыслю в цирковом деле. Он живо уложит на обе лопатки вашу знаменитую собаку-математика, а кроме того, учтите, что с ним вам нет надобности работать не покладая рук. И вы будете дурак, если не застрахуете его на пятьдесят тысяч долларов, как только он прославится. Будь я помоложе и посвободнее, я бы почел за счастье отправиться с ним в турне. Гендерсон коренным образом отличался от всех прежних хозяев Майкла. На редкость бледная личность, он не был ни зол, ни добр. Он не пил, не курил и не ругался; никогда не ходил в церковь и не принадлежал к Христианской ассоциации молодежи; будучи вегетарианцем, не доводил свое вегетарианство до фанатизма; любил кино, в особенности фильмы о путешествиях, и большую часть своего досуга посвящал чтению Сведенборгаnote 14. Характер его никак и ни в чем не проявлялся. Никто никогда не видел его в гневе, и знакомые уверяли, что он обладает долготерпением Иова. Он робел перед полисменами, железнодорожными агентами и кондукторами, хотя и не боялся их. Впрочем, он ничего на свете не боялся, а любил одного только Сведенборга. Натура у него была такая же бесцветная, как костюмы, которые он носил, как его волосы, свисавшие на лоб, и глаза, которыми он глядел на мир. Он не был ни глупцом, ни умным человеком. Но не был и педантом. Он мало давал людям, но мало и спрашивал с них и среди цирковой сутолоки вел жизнь отшельника. Майкл не чувствовал к нему ни любви, ни отвращения, он просто терпел его. Они вдвоем изъездили все Соединенные Штаты и ни разу не повздорили. Гендерсон ни разу не прикрикнул на Майкла, тот ни разу не зарычал на него. Они сжились друг с другом, потому что обстоятельства свели их вместе. Конечно, сердечных уз между ними не существовало. Гендерсон был господином, Майкл — его движимым имуществом. Может быть, он воспринимал Майкла как неодушевленное существо, потому что и сам ничем не умел одушевиться. При всем том Джекоб Гендерсон был честен, деловит и методичен. Каждый день, если только они не были в пути, он купал и потом тщательно вытирал Майкла. Проделывал он это спокойно и неторопливо. Майкл теперь и сам не знал, приятно ему купание или неприятно. Оно стало неотъемлемой частью его жизненного уклада, так же как частью жизненного уклада Гендерсона стало обязательное купание Майкла. Обязанности Майкла были не обременительны, но однообразны. Не считая постоянных странствий, нескончаемых переездов из города в город, ему приходилось ежевечерне выступать на сцене, а дважды в неделю еще и на утренних представлениях. Когда занавес подымали, Майкл находился на сцене в полном одиночестве, как то и подобало прославленному солисту. Гендерсон, скрытый кулисами от глаз публики, внимательно следил за ним. Оркестр исполнял четыре песни из тех, которым его когда-то обучил стюард, и Майкл пел их, — да и, правда, звуки, им издаваемые, куда больше походили на пение, чем на вой. На «бис» он всегда исполнял только одну песню: «Родина любимая моя». Публика устраивала овацию собаке-Карузо, и тут из-за кулис выходил Джекоб Гендерсон, чтобы поклонами и стереотипно радостной улыбкой выразить свою благодарность публике; затем он с наигранным дружелюбием клал руку на голову Майкла, они вместе кланялись еще раз, и занавес наконец опускался. И все-таки Майкл был узником, приговоренным к пожизненному заключению. Его хорошо кормили, заботливо купали, водили на прогулки, но он ни на минуту не чувствовал себя свободным. Во время переездов он дни и ночи проводил в клетке, хотя и достаточно просторной, чтобы стоять в ней во весь рост или лежать, не скорчившись в три погибели. В гостиницах небольших провинциальных городов ему случалось спать вне клетки, в одной комнате с Гендерсоном. Случалось ему, если в программе не было других дрессировщиков, и в полном одиночестве находиться в специальном помещении для зверей при театре и в течение трех дней, самое большее — недели, наслаждаться там относительной свободой. Но ни разу, ни на одно мгновение не случилось ему побегать на воле, забыв о клетке, о четырех стенах комнаты, о цепочке и ошейнике. Днем, в хорошую погоду, Гендерсон часто водил его гулять, но всегда на сворке. Обычно они отправлялись в какой-нибудь парк, где Гендерсон усаживался на скамью, привязывал к ней Майкла и немедленно углублялся в Сведенборга. Майкл шагу не мог сделать свободно. Другие собаки бегали, играли друг с другом или затевали драку. Но стоило им приблизиться к Майклу на предмет более близкого знакомства, как Гендерсон отрывался от книги, — ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы их отогнать. Узник, приговоренный к пожизненному заключению и охраняемый бездушным тюремщиком, Майкл утратил всякий вкус к жизни. Мрачность его сменилась полнейшей апатией. Жизнь и воля перестали интересовать его. И не то, чтобы он с завистью смотрел на пеструю сутолоку жизни, — нет, просто его глаза перестали ее видеть. Отрешенный от жизни, он к ней и не рвался. Он сам превратил себя в покорную марионетку — ел, позволял себя купать, переезжал с места на место в своей клетке, пел на эстраде и очень много спал. Но гордость у него все же осталась — гордость породистого существа, гордость североамериканских индейцев, порабощенных, но не сломленных и безропотно умирающих на плантациях Вест-Индии. Так вот и Майкл смирился перед клеткой и цепью, потому что его мускулы и клыки все равно не могли справиться с железом. Он выполнял свой рабский труд на сцене и повиновался Джекобу Гендерсону, но он не любил своего хозяина, хотя не боялся его, и потому всецело ушел в себя. Он много спал, был мрачен и безропотно сносил свое страшное одиночество. Попытайся Гендерсон завладеть его сердцем, Майкл, безусловно, откликнулся бы на эту попытку; но Гендерсон любил лишь фантастические бредни Сведенборга, а Майкл был для него только источником существования. Временами Майклу приходилось переносить немалые тяготы, но он и с ними мирился. Особенно тяжки были железнодорожные переезды зимой, когда его прямо из театра привозили на вокзал и он на платформе часами дожидался поезда, который должен был увезти его в другой город, в другой театр. Однажды ночью в Миннесоте две собаки на соседней тележке замерзли насмерть. Майкл тогда тоже продрог до костей, и у него мучительно ныло плечо, некогда изорванное леопардом, но он выжил благодаря более крепкому организму и хорошему уходу, которым пользовался все последнее время. По сравнению с другими дрессированными животными Майклу жилось хорошо. Он даже не подозревал и не догадывался, каково приходилось многим его собратьям. Так, например, один номер, стоявший в той же программе, что и номер Майкла, вызывал бурное возмущение даже в среде цирковых артистов. Самые бывалые из них всем сердцем ненавидели некоего Дэкворта, хотя у публики номер «Дрессированные кошки и крысы Дэкворта» пользовался неизменным успехом. — Дрессированные кошки, — фыркала хорошенькая велосипедистка Перл Ла Перл. — Дохлые кошки, а не дрессированные, их доколотили до того, что они сами превратились в крыс. Это же ясно как день! — Дрессированные крысы! — вспылил Мануэль Фонсека, «человек-змея», отказываясь распить с Дэквортом бутылку вина в баре гостиницы «Аннандэйл». — Опоенные крысы! Так будет вернее! Почему они не спрыгивают с каната, а ползут по нему, да еще между двумя кошками? Потому что у них нет сил спрыгнуть. Он их ловит, поит каким-то зельем, а потом морит голодом, чтобы сэкономить деньги на покупку этого зелья. Дэкворт никогда их не кормит. Уж я-то знаю! Иначе куда он девает от сорока до пятидесяти крыс в неделю? Когда ему в городе крыс уже не добыть, ему их присылают откуда-нибудь еще целыми партиями, это факт. — Ей-богу, не понимаю, — говорила мисс Мерль Мерриуэзер, аккордеонистка, та самая, которой на сцене можно было дать лет шестнадцать, но которая в жизни любила хвалиться своими внуками и не скрывала, что ей уже сорок восемь. — Просто злость берет, как это публика ловится на такую удочку. Вчера утром я своими глазами видела: семь крыс из тридцати околели, околели с голоду. Он никогда их не кормит. Они ползут по канату уже полудохлые. Потому и ползут. Если б к ним в желудок попал хоть кусочек хлеба с сыром, они мигом бы удрали от кошек. Они подыхают голодной смертью на глазах у публики, а ползут по канату, потому что и умирающий человек пытался бы уползти от тигра, который вот-вот растерзает его. Бог ты мой! А тупоголовые зрители еще аплодируют этому поучительному зрелищу! Но что знает публика?! — Чего-чего только не сделаешь с животными добротой, — говорил один из зрителей, банкир и церковный староста. — Доброта способна и животным внушить человеческие чувства. Крыса и кошка враждовали с сотворения мира. А нынче вечером мы стали свидетелями их общего участия в сложной игре, и, подумать только, кошки не выказывали ни малейшей враждебности к крысам, а крысы нисколько не боялись кошек. Вот что значит человеческая доброта и какова ее сила! — Лев и ягненок! — восклицал другой. — Говорят, что в золотом веке лев и ягненок будут мирно лежать бок о бок. Ты только представь себе, милочка: бок о бок! А этот Дэкворт умудрился предвосхитить золотой век! Кошки и крысы! Вдумайтесь хорошенько, что это значит. Какое бесспорное доказательство всемогущества доброты! Я сейчас же приобрету разных зверюшек для наших малышей. Надо, чтобы они с детства приучались быть добрыми с собаками, кошками, даже с крысами, а уж с милыми птичками в клетках и подавно. — Так-то оно так, — заметила его благоверная, — но ведь говорит же Блэйкnote 15, что даже «Птичку в клетку заточить, значит бога прогневить». — Нет, милочка, это не так, если по-хорошему обходиться с ней. Я немедленно приобрету парочку-другую кроликов и кенаря с канарейкой. А ты обдумай, какую собачку нам лучше подарить детишкам. «Милочка» взглянула на своего супруга, до мозга костей проникнутого величественным сознанием собственной доброты, и увидела себя самое молоденькой сельской учительницей, приехавшей в Топика-Таун с заветными томиками Эллы Уилер Уилкоксnote 16 и лорда Байронаnote 17 — ее кумиров, с мечтою тоже написать «Поэмы страсти». Там-то она и вышла замуж за этого солидного, положительного дельца, что сидел теперь рядом с ней, восторгаясь мирным единением ползущих по канату кошек и крыс, и ни на мгновение не подозревая о том, что это про него и его жену сказано: «Птичку в клетку заточить значит бога прогневить». — Ну, крысы хоть противные животные, — продолжала мисс Мерль Мерриуэзер, — но как он обращается с кошками! Я наверняка знаю, что за последние две недели он уморил уже трех. Пускай это уличные кошки, но ведь они все равно живые существа. Он их со свету сживает этим своим «боксом». Кошачьим боксом, имевшим большой успех у публики, неизменно заканчивался номер Дэкворта. Двух кошек в маленьких боксерских перчатках на лапках ставили на стол. Само собой разумеется, что для такого «дружеского матча» кошки, работавшие с крысами, были непригодны. В этой сценке дрессировщик выпускал новых кошек, еще не окончательно утративших пылкость и энергию. Они работали на Дэкворта, покуда пылкость и энергия в них не иссякали или же покуда они не подыхали от болезней и истощения. Для публики это был забавный спектакль, комическая борьба четвероногих существ, сделанных до смешного похожими на верховное двуногое существо — человека. Но для кошек ничего комического в этой борьбе не было. Их злили и натравливали друг на друга за кулисами и уже в разъяренном состоянии выпускали на сцену. В ударах, которые они наносили друг другу, чувствовались злоба и боль, ярость и страх. Перчатки быстро соскакивали с их лапок, они, точно фурии, налетали друг на друга, царапались, кусались, так что к моменту закрытия занавеса шерсть клочьями летала по сцене. Публика умирала со смеху, глядя на «неожиданный» финал этой схватки; под громкие аплодисменты занавес снова поднимался, открывая Дэкворта и одного из служителей, обмахивавших кошек полотенцами, точно заправских боксеров. Поскольку номер этот исполнялся ежедневно, раны и царапины у кошек не успевали подживать, загрязнялись, и тела их почти сплошь покрывались болячками. Многие кошки подыхали, другие, обессилев до того, что не могли напасть даже на крысу, уже не боксировали, но работали на канате вместе с одурманенными, изголодавшимися крысами, в свою очередь, не имевшими сил удрать от них. А тупоголовая публика, по справедливому замечанию мисс Мерль Мерриуэзер, аплодировала дрессированным кошкам и крысам как поучительному зрелищу. Большой шимпанзе, выступавший как-то в одном цирке с Майклом, ненавидел одеваться. Как лошадь, не дающая надеть на себя узду, а потом, когда узда уже надета, начисто забывающая о ней, шимпанзе оказывал яростное сопротивление людям, надевавшим на него костюм. Но уже одетый, он спокойно выходил на арену и исполнял свой номер. Вся загвоздка была в том, чтобы его одеть. Проделывали это хозяин и двое служителей, предварительно привязав его к кольцу, вбитому в стену, да еще держа за горло, — и все это несмотря на то, что хозяин давно уже вышиб ему передние зубы. Не испытывая на себе жестокости, Майкл чуял ее и принимал, считая, что таков порядок вещей, — так же как дневной свет и ночной мрак, как колючий мороз на не защищенных от ветра вокзальных платформах, как таинственное царство «иного», открывавшееся ему в сновидениях и песнях, и не менее таинственное небытие, поглотившее плантацию Мериндж, корабли, моря, знакомых ему людей и стюарда. ... === ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Эти трехмесячные каникулы Майкл, заботливо опекаемый, но все же не покидавший своей клетки, провел в дрессировочном заведении некоего Мулькачи. Мулькачи, один из наиболее преуспевших учеников Коллинза, по примеру своего учителя открыл в Чикаго школу дрессировки, в основу которой были положены те же принципы идеальной чистоты, неукоснительного соблюдения всех санитарно-гигиенических правил и научно обоснованной жестокости. Майкл получал превосходную пишу и содержался в безупречной чистоте; но, сидя в своей клетке, одинокий и тоскующий, он чуял вокруг себя атмосферу страданий и страха, в которой жили животные, терзаемые на потеху человека. Мулькачи любил повторять афоризмы собственного сочинения, среди которых были и такие: «Если животное не сломишь болью, его вообще не сломишь. Боль — единственный учитель»; «Отучаем же мы лошадь бить задом, значит, и льва можно отучить кусаться»; «Метелочкой из перьев вы себе зверя не подчините»; «Чем толще череп, тем толще палка»; «Звери — мастера разрушать все ваши планы, поэтому первым делом выбейте из них дух противоречия»; «Сердечные узы между дрессировщиками и животными? Это, голубчик мой, чушь, пригодная разве что для газетных репортеров. Из всех сердечных уз я признаю только палку, да еще с железным наконечником»; «Конечно, вы можете приучить их есть у вас из рук, но тут надо глядеть в оба, чтобы они заодно не отъели вам пальцев. А для этого самое лучшее средство — холостой заряд в нос во время кормежки». В заведении Мулькачи бывали дни, когда, казалось, даже воздух содрогался от злобного рычания и страдальческого визга зверей на арене, так что в клетках начиналось неистовое волнение. Мулькачи вечно похвалялся, что может укротить самого неукротимого зверя, поэтому к нему то и дело доставляли наиболее «трудных» животных. Считалось, что он справится там, где у других дрессировщиков опускались руки. Смелый, бессердечный, хитрый, Мулькачи оправдывал эту репутацию. Он не останавливался ни перед какими мерами и если уж отказывался, значит, дело было безнадежное. Тогда животное было обречено на пожизненное одиночное заключение в клетке, и ему оставалось только до конца своих дней ходить взад и вперед по ее ограниченному пространству да горестно и гневно рычать на устрашение и потеху досужих зрителей. За те три месяца, что Майкл пробыл у Мулькачи, два случая особенно выделились своей жестокостью. В часы работы школа и без того оглашалась воем и воплями «благонравных» медведей, львов и тигров, которым преподавали науку подчинения человеку, или слонов, обучаемых с помощью подъемных кранов и уколов копьями играть на барабане и стоять на голове. Но эти два случая даже тут были исключением и повергли в страх и отчаяние остальных животных. Так должен чувствовать себя человек, войдя в преддверие ада и слыша крики своих собратьев, с которых живьем сдирают кожу. Первый случай произошел с большим бенгальским тигром. Рожденный в джунглях, выросший на свободе, благодаря своей силе и доблести господин над всеми встречавшимися ему живыми существами, в том числе и над другими тиграми, он все же попал в западню; высвобожденный из нее, он в тесной клетке, то на спине слона, то в вагоне железной дороги, то в трюме парохода проехал по морям и континентам и попал в заведение Мулькачи. Покупатели смотрели его, но купить не решались. Однако Мулькачи был непоколебим. Вся его кровь загоралась при одном взгляде на эту величественную полосатую кошку. Присущее ему звериное начало жаждало поединка для утверждения своего превосходства. И вот после двух недель ада для тигра и всех других животных Мулькачи решил, что огромному зверю преподан первый урок. Бен-Болт, как его нарекли люди, прибыл к Мулькачи озлобленный, неукротимый, но почти парализованный после двухмесячного пребывания в тесной клетке, не позволявшей ему как следует расправить члены. Мулькачи следовало бы немедленно заняться тигром, но он упустил две недели, так как только что женился и наслаждался медовым месяцем. За это время Бен-Болт в просторной железной клетке с цементным полом успел оправиться, мускулы его снова обрели былую силу, а ненависть к двуногим созданиям, таким жалким и тщедушным по сравнению с ним, но тем не менее сумевшим хитростью и коварством заточить его в клетку, еще возросла в его сердце. В тот роковой день он нетерпеливо ждал встречи с человеком. И люди пришли, вооруженные веревочными арканами и железными вилами, с заранее обдуманным стратегическим планом. Пятеро из них забросили арканы в клетку. Тигр зарычал и ринулся на извивающиеся по полу веревки; не менее десяти минут бушевал и метался по клетке этот злобный величественный зверь, которому, увы, не хватало изворотливости и терпения, отличавших его жалких двуногих врагов. Затем веревки ему наскучили, он оставил их в покое и зарычал на людей, но правая задняя лапа его уже запуталась в петле. В то же мгновение железные вилы, быстро поддев петлю, рванули ее вверх, и веревки впились в тело тигра, мучительно уязвив его гордое сердце. Он рассвирепел, прыгнул, и грозный рык потряс стены. Бен-Болт так метался по клетке, что веревки обдирали ладони державших их людей. Но они упорно вытаскивали петли из клетки и снова забрасывали, покуда — тигр не успел даже опомниться — петля не затянула и его переднюю лапу. Все, что он делал до сих пор, было ничто по сравнению с неистовством, в которое его повергла эта новая беда. Но он был глуп и нетерпелив. Люди же были умны и терпеливы, и мало-помалу им удалось заарканить третью, а потом и четвертую лапу; они стали тянуть за веревки, и вот он оказался постыдно лежащим на боку у решетки, а лапы его — самое грозное оружие тигра после могучих клыков — вытянутыми наружу между прутьев клетки. А затем тщедушное двуногое создание Мулькачи решительно и нагло вошел в клетку и приблизился к Бен-Болту. Тигр весь напрягся, готовясь прыгнуть на него, но прыгнуть он не мог: его заарканенные лапы торчали из клетки, и никакими силами он не мог втянуть их обратно. А Мулькачи опустился на колени рядом с ним — дерзнул опуститься рядом с ним — и набросил пятую петлю на шею Бен-Болта. И вот голова тигра уже подтянута к прутьям клетки и находится в том же беспомощном положении, что и все четыре лапы. Мулькачи кладет руки ему на голову, треплет его за уши, трогает ему нос — на расстоянии какого-нибудь дюйма от грозных клыков, — а тигр только рычит, храпит и задыхается от стянувшей ему горло петли. Весь дрожа не от страха, а от бешеной ярости, Бен-Болт волей-неволей дает надеть себе на шею широкий кожаный ошейник с длинной и толстой веревкой. Когда Мулькачи выходит из клетки, люди искусно сбрасывают петли с его лап и шеи. После всех страшных унижений он опять свободен — в пределах клетки. Бен-Болт взвивается в воздух. Дыхание вернулось к нему, и он оглашает стены неистовым ревом, дубасит лапами волочащуюся за ним веревку, которая его безмерно раздражает, когтями пытается разорвать ошейник, стягивающий ему шею, падает наземь, катается с боку на бок, запутывается еще больше в веревке, тем самым раздражая свои до предела натянутые нервы, и добрых полчаса проводит в изнурительной борьбе с неодушевленным предметом. Так укрощают тигров! В конце концов, изнемогши от непосильного нервного напряжения и собственной ярости, он ложится посреди клетки и бьет хвостом, глаза его пылают ненавистью, но он уже не пытается сорвать с себя ошейник, на опыте убедившись, что это невозможно. К величайшему его удивлению — если допустить, что тигр способен удивляться — кто-то открывает заднюю дверцу клетки, и она так и остается открытой. Бен-Болт смотрит на нее со злобной подозрительностью. Но никто оттуда не появляется, никакая опасность, видимо, не угрожает ему с той стороны. Тем не менее подозрительность его возрастает: никогда не знаешь, что сделают эти двуногие существа, чего можно ждать от них. Он предпочел бы остаться на месте, но у решетки раздаются крики, щелканье бичей, а главное — его опять колют железными вилами. Волоча за собой веревку и нисколько не помышляя о бегстве, а только в надежде наконец расправиться со своими мучителями, он выскакивает в коридор, тянущийся позади клетки. В коридоре темно и пусто, только в конце его брезжит свет. Громко рыча, Бен-Болт огромными прыжками мчится по коридору под вой, визг и рев других животных. Выскочив на свет, он остановился, ослепленный, потом вдруг припал к земле, забил своим длинным хвостом и стал осматриваться. Но оказалось, что он снова в клетке, только не такой тесной, — это была арена, залитая светом и обнесенная решеткой. Арена была пуста, хотя вверху, на блоке, висели семь громоздких железных стульев, мгновенно показавшихся ему подозрительными; он даже зарычал на них. С полчаса Бен-Болт бродил по арене, — за два с половиной месяца, прошедших со дня его пленения, он впервые передвигался по относительно свободному пространству. Вдруг длинный железный шест с крюком на конце зацепил его за веревку, и какие-то люди, стоявшие по ту сторону прутьев, потянули ее к себе. Десять человек мгновенно ухватились за конец веревки, и Бен-Болт ринулся бы на них, если б в это самое мгновение через заднюю дверцу на арену не вошел Мулькачи. Ничто теперь не разделяло человека и тигра. И Бент-Болт двинулся на Мулькачи, хотя ему все время чудилось что-то неладное: этот тщедушный человек не пятился от него, не пригибался к земле от страха, но спокойно ждал его приближения. Бен-Болт так и не бросился на Мулькачи. Сначала он из хитрости и осмотрительности помедлил с атакой, — распластавшись и колотя хвостом по песку арены, он изучал человека, который вот-вот станет его добычей. В руках Мулькачи держал хлыст и остро отточенные железные вилы, за поясом у него торчал револьвер, заряженный холостыми патронами. Еще ниже припав к земле, Бен-Болт медленно подкрадывался к нему, точно кошка к мыши. На расстоянии прыжка от Мулькачи он совсем распластался, изготовился и бросил взгляд на людей, столпившихся позади него, по ту сторону решетки. О веревке, прикрепленной к его ошейнику, конец которой эти люди держали в руках, Бен-Болт позабыл. — Ну, теперь, старина, придется тебе быть умником, — мягко и даже ласково заговорил с ним Мулькачи, делая шаг вперед и вытягивая руку, держащую вилы. Этот жест разъярил гигантского величественного зверя. Он зарычал громко и страшно, прижал уши и прыгнул, напружинив лапы с грозно выпущенными когтями; хвост его, прямой, как прут, вытянулся в воздухе вровень со спиной. Человек не пригнулся, не обратился в бегство, но и зверь не тронул его: когда тигр взвился в воздух, веревка на его шее натянулась, он перекувырнулся в воздухе и рухнул на бок. Прежде чем он успел снова вскочить, Мулькачи очутился подле него, крича своим помощникам и служителям: «Я выколочу из него дух противоречия!» И он стал колотить его по носу рукояткой бича и колоть вилами под ребра. Ураган ударов и уколов обрушился на самые чувствительные места зверя. Любая его попытка рассчитаться со своим мучителем мгновенно пресекалась десятью людьми, натягивавшими веревку, и всякий раз, когда Бен-Болт валился на бок, Мулькачи беспощадно колол его вилами и хлестал по носу. Боль он испытывал нестерпимую, особенно от ударов по чувствительному носу. А существо, причинявшее эту боль, не уступало ему, Бен-Болту, в неудержимой свирепости, более того, превосходило его в силу своего разума. Через несколько минут, ошеломленный болью, смертельно испуганный своей беспомощностью, Бен-Болт пал духом. Он униженно отступил перед мелким двуногим созданием, оказавшимся свирепее его — огромного бенгальского тигра. Он подпрыгнул, в ужасе заметался из стороны в сторону, низко пригибая голову, чтобы защитить ее от градом сыпавшихся ударов. Он бросился на решетки, окружавшее арену, и подскакивал, тщетно пытаясь вскарабкаться вверх по скользким отвесным прутьям. Мулькачи, точно ангел мщения, повсюду настигал его, бил, колол вилами и шипел сквозь зубы: — Будешь артачиться, будешь? Я тебе покажу, как сопротивляться! На, получай! Получай! Мало? Вот тебе еще! — Ну, теперь я запугал его, остальное уже будет легче, — тяжело дыша, объявил Мулькачи, в то время как огромный тигр, съежившись и дрожа всем телом, отползал к решетке. — Давайте, ребята, передохнем минут пять, чтобы собраться с силами. Спустив на арену один из висевших на блоке железных стульев, Мулькачи стал готовиться к первому сеансу дрессировки. Бен-Болт, тигр, рожденный и выросший в джунглях, теперь должен был сидеть в кресле: трагическая и нелепая карикатура на человека. Но Мулькачи считал, что сначала надо повторить урок страха, еще глубже внедрить это чувство в сердце животного. Подойдя к Бен-Болту на расстояние, большее, чем его возможный прыжок, он полоснул тигра хлыстом по носу, полоснул еще раз, и еще, и еще — несметное множество раз. Бен-Болт отворачивал голову то в одну, то в другую сторону, но бич всякий раз хлестал его по израненному, окровавленному носу; Мулькачи владел бичом не хуже циркового наездника и без промаха стегал Бен-Болта, сколько бы тот ни вертел головой. Обезумев от нестерпимой боли, тигр взвился в воздух, но тут же был брошен наземь десятью сильными мужчинами, державшими конец веревки. Ярость, жажда крови и разрушения были выбиты из его воспаленного мозга, — отныне он знал только страх, бесконечный унизительный страх, страх перед этим маленьким существом, так жестоко его истязавшим. Затем начался первый сеанс дрессировки. Чтобы привлечь внимание зверя к железному стулу, Мулькачи стукнул по нему рукояткой бича и тотчас же хлестнул этим бичом по носу Бен-Болта. В то же самое мгновение один из служителей ткнул его под ребра железными вилами, заставляя отойти от решетки и приблизиться к стулу. Тигр пополз было по направлению к Мулькачи, но тотчас же отпрянул. Мулькачи опять ударил по стулу, бич свистнул в воздухе, опускаясь на морду Бен-Болта, вилы снова вонзились ему под ребра — и боль заставила его приблизиться к середине арены. И так беспрерывно — четверть часа, полчаса, час; человек обладал терпением бога, а Бен-Болт был только бессловесной тварью. Так была сломлена — сломлена в точном смысле этого слова — природа тигра. Ибо дрессированное животное — это навеки сломленное существо, беспрекословно выделывающее всевозможные штуки на потеху публике, оплачивающей из своего кошелька это жалкое зрелище. Мулькачи приказал одному из служителей выйти на арену. Если нельзя просто заставить тигра усесться на стул, значит, надо прибегнуть к особым мерам. Веревку, прикрепленную к ошейнику Бен-Болта, подтянули кверху сквозь решетчатую крышу клетки и пропустили через блок. По знаку Мулькачи все десять человек разом натянули ее. Храпя, давясь, отбиваясь, обезумев от страха перед этим новым видом насилия, Бен-Болт, подтягиваемый за шею, стал медленно отрываться от земли и повис в воздухе. Он извивался, корчился, задыхался, как человек на виселице и, наконец, захрипел. Огромное тело тигра изгибалось в воздухе, скручивалось в клубок, чуть ли не завязывалось узлом — так гибки были его великолепные мускулы. Служители ухватили Бен-Болта за хвост и при помощи блока, передвигавшегося на роликах по верхней решетке, подтащили к тому месту, где стоял железный стул. Тут они сразу ослабили веревку, и Бен-Болт, у которого уже все плыло перед глазами — Мулькачи успел за это время несколько раз пырнуть его вилами, — оказался сидящим в кресле. Правда, он в то же мгновение соскочил, но тут же получил удар рукояткой по носу и холостой заряд прямо в ноздри. Ужас и боль повергли его в настоящее бешенство. Он прыгнул, надеясь спастись бегством, но Мулькачи крикнул: «Поднять его!» И тигр, хрипя и задыхаясь, вновь стал медленно отрываться от земли. И опять его потащили за хвост, опять ткнули вилами в грудь и спустили вниз так внезапно, что он, рванувшись, угодил брюхом прямо на железный стул. Полузадушенный веревкой, на которой его поднимали в воздух, после этого падения он лежал, казалось, вовсе бездыханный, его потускневшие глаза приняли бессмысленное выражение, голова болталась из стороны в сторону, из пасти стекала пена, кровь ручьем лилась по разбитому носу. — Поднимай! — заорал Мулькачи. И Бен-Болта, опять начавшего бешено отбиваться от душившего его ошейника, стали медленно подтягивать кверху на блоке. Он противился своим мучителям так яростно, что, как только его задние лапы оторвались от пола, стал раскачиваться, точно гигантский маятник. Когда его снова одним броском швырнули на стул, он на мгновение и вправду принял позу сидящего человека; потом вдруг взревел и молниеносно вскочил. «Взревел», собственно говоря, не то слово. Это не было ревом, так же как не было рыком или ворчанием, — это был страшный вопль потерявшего себя живого существа. Зверь бросился на Мулькачи, но тот уклонился и выстрелил холостым зарядом ему в другую ноздрю. На этот раз, когда его опустили, он повалился на стул, как неполный мешок с мукой, и тотчас же стал медленно сползать с него весь обмякший, поникнув огромной рыжей готовой, покуда не очутился на полу без памяти; черный распухший язык вывалился из его пасти. Когда Бен-Болта стали отливать водой, он испустил тяжелый вздох и застонал. На этом кончился первый урок. — Все в порядке, — говорил Мулькачи после ежедневных занятий с Бен-Болтом. — Терпение и труд все перетрут! Я поработил его, он меня боится. Мне нужно только время, а время, затраченное на такого зверя, неизбежно повышает его ценность. Но ни в первый, ни во второй, ни в третий день Бен-Болт еще не был достаточно укрощен. Лишь через две недели настал день, когда Мулькачи ударил по стулу рукояткой бича, служитель ткнул Бен-Болта вилами под ребра, и тигр, давно утративший всю свою царственность, пресмыкаясь, точно побитая кошка, и всем телом трепеща от страха, влез на стул и, как человек, уселся на нем. Теперь это был в полном смысле слова «благовоспитанный» тигр. И подумать только, что тигр, сидящий на стуле, эта жалкая, трагическая пародия на человека, многими воспринимается как весьма «поучительное» зрелище! Второй случай, с Сент-Элиасом, оказался еще более тяжким, но главное — в этом случае потерпел поражение обычно непобедимый Мулькачи. Впрочем, все вокруг утверждали, что иначе и быть не могло. Сент-Элиас, огромный аляскинский медведь, был существом скорее добродушным и даже веселым — конечно, на свой медвежий лад, — но при этом он отличался своеволием и упорством, пропорциональными его гигантским размерам. Его можно было уговорить выполнить тот или иной урок, но не заставить. А в цирковом мире, где программа слаженна, как часовой механизм, на уговоры не остается времени. Дрессированное животное должно исполнять свой номер и исполнять проворно. Публика не станет дожидаться, покуда дрессировщик уговорит сердитого или проказливого зверя выполнить то, что ей обязаны показать за ее деньги. Итак, Сент-Элиасу был насильно преподан первый урок, оказавшийся, впрочем, и последним, — на арене Сент-Элиас так никогда и не появился, ибо этот урок происходил в клетке. Прежде всего медведю сделали «маникюр». Для этого все четыре его лапы, стянутые веревками, были насильно просунуты сквозь прутья клетки, голова же с накинутой на шею тугой петлей, так называемым «душителем», накрепко прикручена к тем же прутьям. Самый «маникюр» заключался в том, что ему вырезали все когти до самого мяса. Производили эту операцию служители, стоявшие за решеткой. Едва они успели ее окончить, как Мулькачи, находившийся в клетке, проткнул ему в носу отверстие для кольца. Операция тоже отнюдь не из легких. Засунув инструмент в ноздрю медведя, Мулькачи вырезал из нее кружок живого мяса. Он-то знал, как обращаться с медведями: для того чтобы заставить дикого зверя повиноваться, надо причинить ему боль. Самые чувствительные места у него — уши, нос и глаза; глаза трогать, конечно, нельзя, значит, остаются нос и уши. Проткнув отверстие в носу медведя, Мулькачи немедленно продел в него металлическое кольцо, а к кольцу привязал веревку. Отныне медведь уже не мог своевольничать. Человек, держащий веревку, получал полную власть над ним, и Сент-Элиас до конца дней своих, до самого последнего вздоха, был обречен рабски покорствовать этой веревке. Петли, опутывавшие его лапы и шею, были сняты; теперь Сент-Элиасу предстояло освоиться с продетым ему в нос кольцом. Рыча и поднявшись на дыбы, он стал ощупывать кольцо своими могучими передними лапами. Но это было нелегкое дело. Нос пылал огнем, а он рвал, дергал, тер его, как рвал, дергал и тер, когда его жалили пчелы, вылетевшие из развороченной им колоды. В конце концов он вырвал кольцо вместе с клочьями живого мяса, превратив небольшое круглое отверстие в страшную рваную рану. Мулькачи разразился проклятиями: «С ним сам черт ногу сломит!» Медведя опять заарканили, повалили на бок и подтащили к решеткам, чтобы вторично подвергнуть той же операции. Ему продырявили другую ноздрю. И черт вправду сломил себе ногу. Как только Сент-Элиасу освободили лапы, он опять вырвал кольцо вместе с мясом. Мулькачи был вне себя. — Да образумься же ты, дурак! — укоризненно восклицал он. Образумиться, по мнению Мулькачи, значило дать продеть себе кольцо через обе ноздри, а для этого надо было предварительно пробить отверстие в носовой перегородке. Но Сент-Элиас не образумился. Он не сломился, подобно Бен-Болту, ибо не был так нервозен, так возбудим и внутренне слаб. Как только его развязали, он мгновенно вырвал кольцо вместе с половиной носа. Мулькачи продырявил ему правое ухо. Сент-Элиас в клочья разорвал его. Продырявил левое — Сент-Элиас разорвал и левое. Мулькачи сдался. Ничего другого ему, впрочем, не оставалось. — Мы потерпели поражение. Продеть ему кольцо мы уже не можем, а значит, он нам не подвластен, — огорченно заявил Мулькачи. Итак, Сент-Элиас до конца своих дней был обречен сидеть в зверинце, а Мулькачи, вспоминая его, всякий раз недовольно бормотал: — В жизни не видывал такого неразумного существа. Я ничего не мог с ним поделать. Не к чему было прицепить кольцо. ... === ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ — Да ведь это не антракт. Смотри, в программе стоит еще один номер. — Дрессированная собака, — коротко отвечал Гарлей, но этим было все сказано; он неизменно выходил из зала во время выступления дрессированных собак. Вилла Кеннан заглянула в программу. — Правда, — сказала она и, помолчав, добавила: — Но это поющая собака. Собака-Карузо. И тут сказано, что на сцене никого, кроме этой собаки, не будет. Давай разок останемся, сравним его с Джерри. — Какая-нибудь несчастная тварь, взвывшая от побоев, — пробурчал Гарлей. — Да, но ведь он один на сцене, — настаивала Вилла. — А потом, если зрелище окажется тяжелым, мы поднимемся и уйдем. И я уйду с тобой. Очень уж мне хочется знать, насколько Джерри поет лучше этой собаки. Смотри, в программе помечено, что это тоже ирландский терьер. Гарлей Кеннан остался. Два клоуна, вымазанных жженой пробкой, закончили свой номер на просцениуме, потом три раза бисировали его, и, наконец, занавес взвился, открыв совершенно пустую сцену. Из-за кулис размеренным шагом вышел жесткошерстный ирландский терьер, спокойно приблизился к рампе и стал напротив дирижера. Как и указывалось в программе, на сцене никого, кроме него, не было. Оркестр сыграл первые такты «Спи, малютка, спи». Пес зевнул и уселся. Оркестр точно следовал инструкции — повторять первые такты до тех пор, пока собака не вступит, а затем уже играть все до конца. После третьего повторения собака открыла пасть и запела. Воем эти звуки никак нельзя было назвать, настолько они были приятны и прочувствованны. Это не было и простым воспроизведением ритма, — собака точно и правильно выводила мелодию. Но Вилла Кеннан почти не слушала ее. — Ну, он совсем забил нашего Джерри, — шепнул ей Кеннан. — Скажи, — взволнованным шепотом отвечала Вилла, — ты никогда раньше не видел этой собаки? Гарлей отрицательно покачал головой. — Нет, ты видел ее, — настаивала Вилла. — Взгляни на это сморщенное ухо. Вспомни! Постарайся вспомнить! Прошу тебя! В ответ ее муж опять только покачал головой. — Вспомни Соломоновы острова, — требовала она. — Вспомни «Ариеля». Вспомни, когда мы вернулись с Малаиты в Тулаги, уже вместе с Джерри, у него там на какой-то шхуне оказался брат, охотник за неграми. — По кличке Майкл. Ну и что же дальше? — У него было вот такое же сморщенное ухо, — торопливо шептала Вилла, — и жесткая шерсть. Он был родной брат Джерри. А родители их — Терренс и Бидди — жили в Мериндже. И потом — наш Джерри ведь «певчий песик-дурачок». И эта собака тоже поет. И у нее сморщенное ухо. И ее зовут Майкл. — Ну, это что-то уж слишком неправдоподобно, — возразил Гарлей. — Когда неправдоподобное становится правдой, тогда и радуешься жизни, — отвечала она. — А это как раз и есть неправдоподобная правда. Я уверена. Как мужчина, Гарлей не мог поверить в невероятное. Вилла, как женщина, чувствовала, знала, что невероятное обернулось вероятным. В это время собака на сцене запела «Боже, храни короля». — Вот видишь, я права, — торжествовала Вилла. — Ни одному американцу, да еще живущему в Америке, не взбрело бы на ум учить собаку английскому гимну. Собака принадлежала раньше англичанину. А Соломоновы острова — английское владение. — Ну, это — сомнительное доказательство, — усмехнулся Гарлей. — А вот ухо больше убеждает меня. Я вспомнил теперь, ясно вспомнил, как мы с Джерри сидели у моря в Тулаги и его брата привезли на шлюпке с «Евгении». У того пса было точь-в-точь такое же куцее, сморщенное ухо. — А потом, — не унималась Вилла, — много ли мы с тобой видели поющих собак? Одного Джерри. Значит, они не часто встречаются. Это, видимо, семейная особенность. У Терренса и Бидди родился Джерри. А это его брат Майкл. — Это был жесткошерстный пес со сморщенным ухом, — вспоминал Гарлей. — Я как сейчас вижу его на носу шлюпки, а потом он бегал по берегу голова в голову с Джерри. — Если бы ты завтра увидел, как он бежит голова в голову с Джерри, ты бы перестал сомневаться? — допытывалась Вилла. — Да, это была их любимая забава и любимая забава Терренса и Бидди тоже. Но очень уж далеки Соломоновы острова от Соединенных Штатов. — Джерри из тех же краев, — отвечала она. — А вот оказался в Калифорнии; что ж удивительного, если судьба занесла сюда и Майкла?.. Слушай, слушай! Собака запела на бис «Родина любимая моя». Когда по окончании песни раздался взрыв аплодисментов, из-за кулис вышел Джекоб Гендерсон и стал раскланиваться. Вилла и Гарлей некоторое время молчали. Затем Вилла вдруг сказала: — Вот я сижу здесь и благодарю судьбу за одно обстоятельство… Он ждал, что последует дальше. — За то, что мы так бессовестно богаты. — Другими словами, ты хочешь получить эту собаку и знаешь, что получишь ее, так как я могу доставить тебе это удовольствие, — поддразнил ее Гарлей. — Потому что ты не можешь отказать мне в этом, — ответила Вилла. — Не забудь, что это брат Джерри. Ведь и ты в этом уже почти не сомневаешься… — Да, ты права. Невозможное иногда сбывается, и не исключено, что сейчас именно сбылось невозможное. Вряд ли это Майкл, но, с другой стороны, почему бы этому псу и не оказаться Майклом? Пойдем за кулисы и постараемся все выяснить. «Опять агенты Общества покровительства животным», — решил Джекоб Гендерсон, когда двое незнакомых людей, сопровождаемые директором театра, вошли в его тесную уборную. Майкл дремал на стуле и не обратил на них никакого внимания. Покуда Гарлей говорил с Гендерсоном, Вилла внимательно рассматривала Майкла; под ее взглядом он приоткрыл глаза, но тотчас же снова закрыл их. Обиженный на людей, всегда угрюмый и раздражительный, Майкл не был склонен ласково и приветливо относиться к людям, которые приходили невесть откуда, гладили его по голове, несли какую-то чепуху и тут же навсегда исчезали из его жизни. Вилла Кеннан, несколько уязвленная своей неудачей, отошла от него и прислушалась к тому, что говорил Джекоб Гендерсон. «Гарри Дель Мар, опытный дрессировщик, подобрал эту собаку где-то на побережье Тихого океана, кажется, в Сан-Франциско, — услышала она. — Он увез собаку с собой на восток, но погиб от несчастного случая, не успев никому ничего о ней сообщить». Вот и весь рассказ Гендерсона, к нему он добавил только, что заплатил за нее две тысячи долларов некоему Коллинзу и считает, что это самая выгодная сделка в его жизни. Вилла снова подошла к собаке. — Майкл, — ласково окликнула она его, понизив голос почти до шепота. На этот раз Майкл шире открыл глаза и навострил уши, по телу его пробежала дрожь. — Майкл! — повторила она. Теперь уши Майкла приняли вертикальное положение; он поднял голову, широко раскрыл глаза и взглянул на Виллу. Со времени Тулаги никто не называл его Майклом. Через моря и годы донеслось до него это слово. Точно электрический ток пробежал по его телу, и в мгновение ока все прошлое, связанное с кличкой «Майкл», заполнило его сознание. Он увидел перед собой капитана «Евгении» Келлара, который последним так называл его, и мистера Хаггина, и Дерби, и Боба из Меринджа, и Бидди, и Терренса, и всего ярче среди теней былых времен — своего брата Джерри. Но разве это былое? Ведь имя, исчезнувшее на годы, вернулось снова. Оно вошло в комнату вместе с этими людьми. Конечно, Майкл всего этого не думал, но по тому, что он сделал, именно таков должен был быть ход его мыслей. Он соскочил со стула и одним прыжком очутился возле этой женщины. Обнюхал ее руку, обнюхал всю ее, покуда она его ласкала. Затем он узнал ее — и обезумел. Он отбежал от нее и начал кружить по комнате, сунул нос под умывальник, обнюхал все углы, опять, как одержимый, кинулся к ней и жалобно заскулил, когда она протянула руку, чтобы погладить его. В ту же секунду он отпрянул от нее и в неистовстве стал носиться по комнате, все так же жалобно скуля. Джекоб Гендеосон поглядывал на него удивленно и неодобрительно. — Никогда не видел его в таком волнении, — заметил он. — Это очень спокойная собака. Может быть, у него припадок? Но почему бы вдруг? Никто ничего не понимал, даже Вилла Кеннан. Понимал только Майкл. Он бросился на поиски исчезнувшего мира, который вдруг снова открылся ему при звуке его прежнего имени. Если из небытия могло вернуться это имя и эта женщина, когда-то виденная им в Тулаги, значит, может вернуться и все остальное, что осталось в Тулаги или кануло в небытие. Если она во плоти стоит здесь, перед ним, и кличет его по имени, то возможно, что капитан Келлар, и мистер Хаггин, и Джерри тоже здесь, в этой комнате, или за дверью, в коридоре. Он подбежал к двери и с визгом стал царапать ее. — Наверно, он думает, что там кто-нибудь стоит, — сказал Гендерсон и распахнул дверь. Майкл и вправду так думал. Более того, он ждал, что в открытую дверь хлынет Тихий океан, неся на гребнях своих волн шхуны и корабли, острова и рифы, и вместе с ним наполнят эту комнату все люди, и звери, и вещи, которые он знал когда-то и помнил поныне. Но прошлое не хлынуло в дверь. За ней не было ничего, кроме обычного настоящего. Он понуро возвратился к женщине, которая ласкала его и называла Майклом. Она-то, как-никак, была из плоти и крови. Затем он тщательно обнюхал ее спутника. Да, этого человека он тоже видел в Тулаги и на палубе «Ариеля». Майкл опять пришел в возбуждение. — О Гарлей, я знаю, что это он! — воскликнула Вилла. — Проверь его на чем-нибудь, испытай его! — Но как? — недоуменно спросил Гарлей. — Похоже, что он узнал свое имя. Это и привело его в такое волнение. И хотя он никогда близко не знал нас с тобой, он, видимо, нас все-таки вспомнил, и это еще больше взволновало его. Если бы он умел говорить… — Ну, заговори же, милый, заговори, — умоляла Вилла, обеими руками держа голову Майкла и раскачивая ее взад и вперед. — Осторожнее, сударыня, — предостерег ее Гендерсон. — У этого пса угрюмый нрав, и никаких вольностей он с собой не позволяет. — Ну мне-то он позволит, — нервно смеясь, отвечала Вилла. — Ведь он меня вспомнил… Гарлей! — вскрикнула она, так как ее внезапно осенила блестящая мысль. — Я знаю, что делать! Слушай! Ведь Джерри был охотником за неграми, до того как попал к нам. И Майкл тоже. Скажи что-нибудь на жаргоне Южных морей. Притворись, что ты сердишься на какого-нибудь негра, и посмотрим, что он сделает. — Да я, пожалуй, уж ничего не припомню, — сокрушенно заметил Гарлей, одобривший ее затею. — А я постараюсь отвлечь его, — быстро сказала Вилла. Она села, наклонилась к Майклу, спрятала его голову у себя на груди и, раскачивая ее, принялась мурлыкать какую-то песенку; так они частенько сидели с Джерри. Майкл не обиделся на такую вольность и, в точности как Джерри, начал тихонько подвывать ей. Она сделала Гарлею знак глазами. — Убей, не понимаю, — начал он злым голосом. — За каким чертом твоя прилезла это место? Вот я сейчас твоя покажу… И Майкл вдруг ощетинился, высвободился из объятий Виллы и, рыча, забегал по комнате в поисках черного человека, своим вторжением, видимо, прогневившего белого бога. Но черного человека здесь не было. Майкл стал смотреть на дверь. Гарлей тоже перевел взгляд на дверь, и Майкл уже не сомневался, что по ту сторону стоит чернокожий с Соломоновых островов. — Эй, Майкл! — во весь голос крикнул Гарлей. — Возьми его, живо! Свирепо рыча, Майкл бросился к двери. В ярости он так сильно ударился об нее, что щеколда соскочила и дверь распахнулась. Неожиданная пустота в коридоре испугала Майкла, он отпрянул, потом весь как-то сник, ошеломленный и сбитый с толку этим призрачным и ускользающим прошлым. — Ну, а теперь, — обратился Гарлей к Джекобу Гендерсону, — перейдем к деловому разговору. ... *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Источники : https://онлайн-читать.рф/лондон-майкл-брат-джерри/ Слушать - https://knigavuhe.org/book/majjkl-brat-dzherri/?ysclid=mk89svza8p753546034 https://zvukbook.com/listen/maykl-brat-dzherri-dzhek-london https://en.wikipedia.org/wiki/Michael,_Brother_of_Jerry?ysclid=mk89uwpe3d12593010 - " Майкл, брат Джерри" - роман Джека Лондона, вышедший в 1917 году. ... Каждая книга рассказывает историю одного из двух братьев и сестер-собак, Джерри и Майкла, родившихся на Соломоновых островах... https://ru.wikipedia.org/wiki/Майкл,_брат_Джерри - «Майкл, брат Джерри» (англ. Michael, Brother of Jerry) — роман американского писателя Джека Лондона, издан в 1917 году. Главный герой — кобель породы ирландский терьер по кличке Майкл. ... Однажды Дэг Доутри открыл талант Майкла — пение. ... *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ... *** *** ... --- *** *** *** *** ... --- --- ПОДЕЛИТЬСЯ ---
--- --- --- *** ---
009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 ... КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК. А.С.Пушкин ...
*** ...
... ... *** *** ... АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |