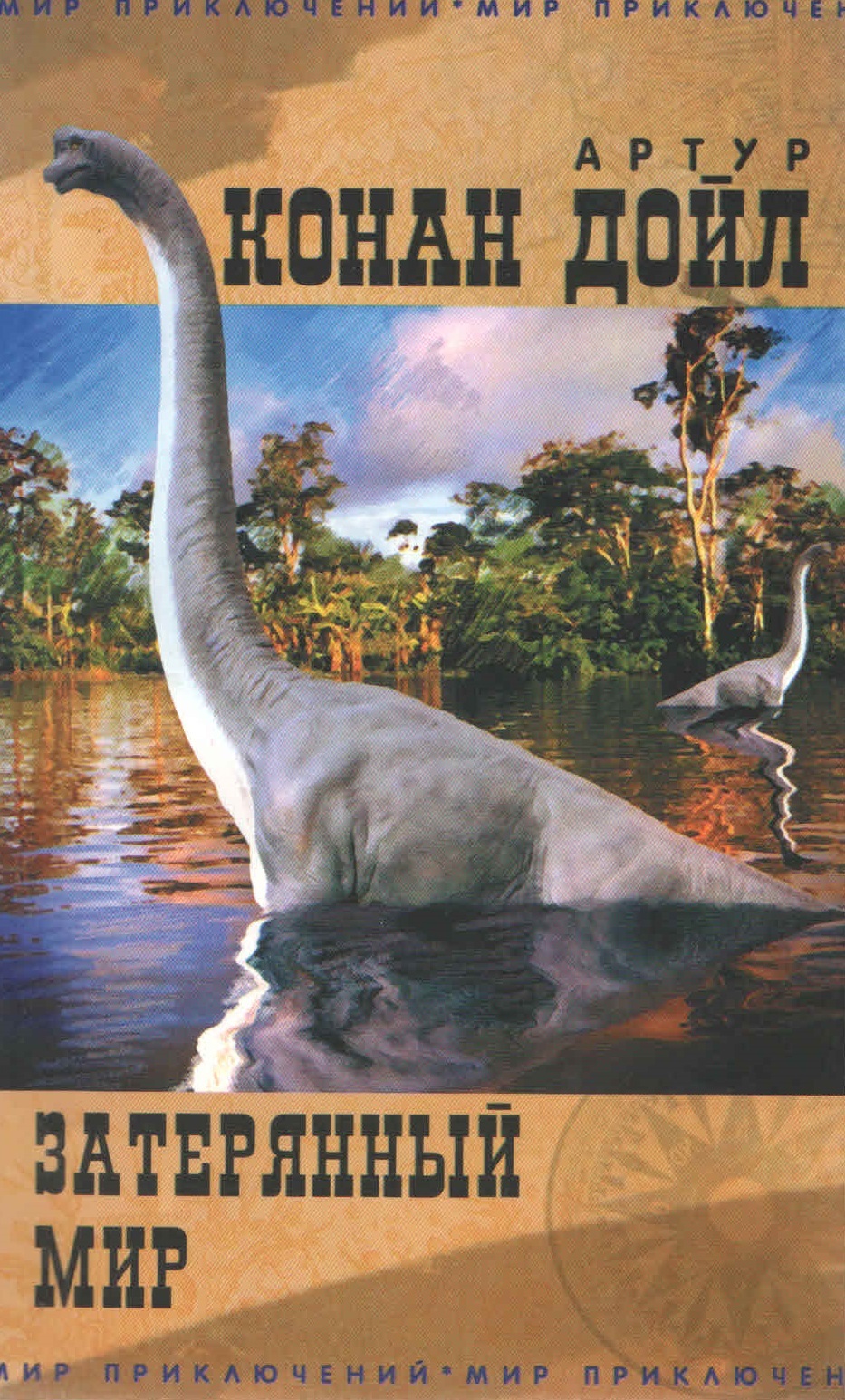06:17 РОМАН С ГЕРОЕМ - КОНГРУЭНТНО - РОМАН С СОБОЙ. Зоя Евгеньевна Журавлева. 001 | |
|
--- --- Зоя Евгеньевна Журавлева И вдруг мне все опостылело… Когда исчезнут вещи и дела, и даже след цивилизаций, вдруг прорастут из Времени Слова, осмыслив жадное Пространство. Все, что копили миллионы лет, Слова вдруг явят, запах свой и цвет, и форму, без которой Слова — нет. Ведь только Человек, сам вырвавший Слова из немоты, как джинна — из бутылки тесной, внушил себе, что Слово — бестелесно, что можно им распоряжаться кое-как, бросать на ветер как пустяк и ставить запросто — на место, лишь Человек наивный, так уж вышло, бесстрашно их лишает смысла. Слова — до времени — дают с собой играть, свою скрывая власть, но расщепленный атом содрогнется — от зависти, — когда терпенье это оборвется. Хоть можем долго мы еще бездумно жить, и мелочность свою в Слова рядить, и мелкостью своей Словам вредить, и говорить, и городить. Им — некуда спешить, у Слов — в отличие от нас — в запасе Вечность. Часто нет ничего более бездоказательного, чем фраза, вырванная из контекста, именно поэтому цитаты порой обессмысливают критическую статью, где — вроде бы — есть концепция. Но бывают фразы самодостаточные, умри — лучше не скажешь: Как кто-то правильно подметил, на нас идет пещерный ветер, уж тянет шкурами и дымом, уж пахнет жареным давно, а мы живем упорно — мимо, а мы спешим неисцелимо на пляж, на службу и в кино. Как стрелы первобытных прерий, отпели прежние дуэли во имя нравственных высот… Ну и писала бы себе детские книжки, раз получается. Он, например, взахлеб читал куски из моей последней на всех родительских собраниях. Он верит в печатное слово наивно и свято, как неандерталец. Он верит, что если написать идиллию, то подвигаешь мир к лучшему, к идиллии же. Я пишу идиллии. Понимая вокруг опустошенно и трагедийно, я пишу пасторали. Умные светлые дети с огромными глазами задают в моих книжках чистые и глубокие вопросы своим умным и чистым родителям. Мама любит папу. Папа любит маму. Или они не любят друг друга так мучительно, самозабвенно и чисто, что это та же любовь. Только с отрицательным знаком. Все идет к прекрасному в себе через муки, которые красиво осознаны яростным детским восприятием. На самом деле, естественно, — моим, но якобы детским. Никто никогда не делает подлостей и мелкостей. Мир вокруг яростно пахнет, распахивается, бесконечно раскручивается цветными полотнищами, как небо над тундрой, звенит своими красками и завлекает жить высоко, бескомпромиссно и чисто. И за всем этим стоит возвышающая душу грусть, когда все слишком хороши для этой жизни и потому эту жизнь непременно сделают достойной себя. Мысль, серенькую как лесная птаха, вдруг выразить нарядными словами — моя всегдашняя забота и печаль, и в этом деле я поднаторела, ища для серого — блестящие оттенки. Осталось неразгаданным: зачем? Что заставляет душу вращать мучительно словесный вал? Так океан бездонными валами ворочает. А в результате — ракушками поросший старый остов рыбачьей лодки, прядь травы увядшей иль просто камень выкинут на берег, каких кругом полно на берегу. Зачем так сладостно смещать понятья, когда важней — понять их? Тайный смысл лишь ускользает в ворохе созвучий. И остается лишь мгновенный всплеск, как будто рыба, прохладная и скользкая как мысль, ударив плавниками круто в волны, плеснула. И канула в безвестные глубины. И почему такое наслажденье мне доставляет этот труд души? Такое полное и чистое блаженство, что заглушает все другие чувства, вдруг делая слепой, беззвучной и счастливой? Какое это к Вам имеет отношенье? И почему — имеет, вот вопрос… Если вещество — с позиций современной физики — можно рассматривать как возмущение пространства-времени, то слово, по-видимому, можно рассматривать как возмущение высокоорганизованного вещества, что суть — мы. Интересно только, почему это вдруг делает слово более понятным мне и родным? Вдруг ощутила валунную безоглядность и прозрачную необходимость белого стиха — это прозрачный пейзаж покинутого ложа северной реки. Сглаженная — спокойная — валунность и неостановимость его не имеет поверхностных ориентиров, безоглядность не дробится на рифмы, уже не нуждаясь в этих эмоциональных толчках, как базальт — в шлифовке, текучая вздыбленность свободна от внешней симметрии, вобрав ее в себя. А возможно рифмы и зеркальная симметрия такого карельского пейзажа попросту где-нибудь в Канаде, как рифмы и симметрия чьей-то души, затерянной в Мордовии, бродят по Аризоне. Белый стих — это неделимая протяженность души, себя выражающей, это — медлительное и неостановимое, как истечение вечности, скольжение лавы вдоль пологого склона вулкана; белый стих ближе всего — к песне кочевника, где повторяется одна строчка и, безудержно повторяясь (Поздравляю себя, далась мне эта «песня»!), она — непонятно как — с каждым витком — наращивает в тебе настроение-информацию, постепенно освобождает тебя—от тебя самого и одновременно сливает тебя как бы со всем миром, даже если он неведом уму. С этой завораживающей и иррациональной протяженности так трудно поэтому соскочить, попав вдруг на белый стих, мы с Машкой неделями не можем потом отделаться от него: что значит — ритм вечности. Белый стих — это непрерывность, а рифмованные стихи — это разрыв непрерывности, это скачки, толчковые шумы сердца, слепительные взрывы души. (Бред, ибо рифмы только усиливают как раз слияние с вечностью — именно прорывом.) Проза же вбирает в себя и то и другое, поэтому она всегда — объемная геометрическая фигура, проза — обязательно и прежде всего — объем. Прошла стеклянная девочка, при каждом ее соприкосновении с тротуаром слышался слабый и четкий звон, как бы вздрагивание легкой люстры при небольшом землетрясении, балла два—два с половиной. Я боялась, что кто-нибудь неосторожно заденет ее сумкой и разобьет. Но она благополучно достигла автобусной остановки. Я была почти уверена, что ее разобьют при посадке, ведь был час пик. Но она благополучно опять возникла уже в автобусе. Непонятно как — оставаясь стеклянной — она даже переменила позу. Теперь она сидела на заднем сиденье, в углу. И слабый четкий звон слышался всякий раз, когда она случайно касалась острым локтем соседа, чугунного старичка… Художник, по-видимому, структура типа вулкан, где-то внизу и в глуши себя клокочут силы необоримые и ищут выхода вверх. Но канал этот, выводящий наружу и являющий себя в виде кратера или хотя бы фумаролы, мученически непробиваем. Если нет постоянного тренажа, что и есть органическая графомания писателя, этот канал замусоривается бытовыми подробностями и страстями, заиливается случайным и мелким, закаменевает. Пробить его трудно, будто его вовсе нет. Хочется взять стальной дрын и проткнуть. Но проткнуть можно только изнутри, вот в чем беда. И — значит — только собственным мощно энергетическим потоком. Для этого и приходится, как я для себя определяю, наращивать в себе одиночество. Нужно нарастить такое, когда все, кроме этой жаждущей прорыва магмы внутри, уже не имеет значения, звуки обыденного мира глохнут вокруг и лица кругом сливаются в пятна, время в тебе сгущается, будто мед, и свертывается до сингулярности (ух, вот оно — это слово, никак без него, больно уж слово трансцендентальное), а пространство закручивается вокруг, как кокон, в котором свободно и неотрывно только кваркам души. Послать, что ли, Ему телеграмму: «Высокочтимый сэр восклицательный знак Что делать если ничего не понимаешь вопросительный знак Ученик точка». Но Он даже не заподозрит меня, вот в чем скука. Его настоящие ученики присылают и не такое. А этот вопрос Ему задали безымянной запиской на лекции в Областном институте усовершенствования учителей, где Он толковал о математических и педагогических перспективах в свете своих прозрений. Аудитория же была разношерстна, устала и коварна в силу своей иногородности и простого, как тензор Риччи, желания сразу после лекции успеть пробежаться по магазинам. Эту аудиторию Он все-таки возжег и красиво и длинно горел потом на моих глазах в пышном костре коллективного единения. Жирный шмяк велосипеда по луже, бурые листья возле обочин, бурый вереск под соснами, фиолетовость лишайников на сосновых стволах, синий отблеск берез в заходящем солнце. Папоротники умирают, как человек, закинув сжатые сухие кулачки и выгибаясь грудью вперед. Умирают — будто простреленные. Высоко в соснах сквалыжничают вороны, тягуче, как дворцовые двери. Занимая всю ширину дороги, выступают три тетки в малиновых синтетических папахах (если папаха — шляпа), в волосатых, даже пожалуй — хищно волосатых, пальто, четырехугольные и на сваях. Сваи — в стороны, сваи — внутрь и просто — прямые жерди в высоких сапогах. Средняя держит веточку бузины, далеко и неловко от себя, будто ядовитый анчар. Гуляет в жиденьком, но все же лесном одиночестве толстенький мужичок, и весь он озвучен спидолой из-под мышки. На велосипеде не страшна его спидола, в двух поворотах колеса звук уже глохнет, словно захлебывается в хвое. Одинокие толстые женщины вяло ищут последние грибы и вяло перекликаются. Одна что-то нашла, закудахтала, шурша крыльями, остальные посильно быстро слетелись, присели в кружок, в общем их кудахтанье возникла и заблестела, как слабый осенний луч, мажорная нота. Гриб, похоже, крепко попался. Небрежные муравейники возле дорожки, серые иглы свалены в кучу грубо и кое-как. А муравья ни одного не видать. Тянется сплошной серый забор, и в щели его далеко, сиротливо, покинуто мелькает в глубине дача. Далеко и грустно донесся собачий лай… У темных елей черная хвоя, и черные — углом — ложатся тени. Душа моя — ты черная ладья, летящая в слепом кипенье. Не видно и не слышно берегов. Фарватер узок. И страшна стремнина. Тяжелая вода черна — как кровь из раны, что неисцелима. Меж облаков ударил глаз луны. И вспух, сверкнул и растворился камень. В ушах гудит от черной тишины, которая — мы сами. А черных гор давящая гряда угрюмой сводит судорогой спину. Душа моя — ты черная беда, которая ни с кем не разделима. А ведь честью могу поклясться и призвать орлана-белохвоста в свидетели, что в тот миг, когда в виске у меня разгульно стукнуло — «душа моя, ты черная ладья!», — сердце мое исполнено было только исступленного восторга. Мы спускались с верхов, за спиной был Урал, еще — близко; с гор летел ветер, там, над горами, шли чернильные — до густоты — снежные заряды, царственно и вечно, шеренгой, но нам они уже были не страшны. Мы неслись через Обормот, это перекат на верхней Печоре, где плес метров под девяносто вширь, а фарватер узок и гибок, как толедская сталь, лодке тут и на метр нельзя ошибиться. Были сумерки, черная еловая тайга зубчато и остро падала в воду с крутого берега, где блестела синим скала Обормот, впереди нас, прямо по курсу, долго и обреченно молотил лапами по воде выводок крохалей, черно-белой утки, пока догадался нырнуть, я стояла на носу перегруженной нашей лодки, зажимая у горла суконную куртку, а куртка хотела лететь и звенела от ветра. Ночью вдруг стукнуло: человек — это память. Хоть по любимой моей второй теореме Гёделя мы никогда не сможем определить, что же такое — человек, не сможем дать исчерпывающее определение. Мы можем только всю жизнь думать над этим, ходить — кругами — вокруг самих себя, присматриваться и вслушиваться, постигать частности, удивляться им или ужасаться, создавать схемы, чтобы было легче, и отказываться от них, чтобы стать шире и идти вперед. В нас изначально нет и не может быть — опять же по Гёделю, но, может, как раз в этот миг уже родился другой Гёдель, который найдет выход и все переиначит, — такого иерархического уровня языка, такого метаязыка, чтобы самих себя исчерпывающе определить. Жизнь — это память. Не больше, но и не меньше. Любовь — только память. Недаром, если она родится мгновенно, возникает тысяча объясняющих пристроек: «Я тебя будто всю жизнь знаю», «Я тебя уже знал когда-то», «Лет сорок ты мне снилась, а встретилась вчера», или как там в песне поется. Время — одинаково всем отмерено, лишь протекает по-разному, кто-то занимается дрязгами, а кто-то наращивает высоты, как уж кому охота. Если великие люди, как и великие события, действительно отбрасывают впереди себя тень, как бессмертно сказано, то Владислав Васильевич Шмагин истинно великий человек. Его плотную, струящуюся и исполненную загадок тень я ощутила еще на центральной усадьбе заповедника, где до самого Шмагина было больше двухсот километров вверх по Печоре. Первое дуновение этой тени коснулось меня в местной бане, куда я пошла — как в клуб. Бани я не люблю никакие, кроме душа, мне в них слишком много неорганизованного мяса, которое парит себя и лелеет, и как бы даже кичится своим несовершенством. Красивые моются быстро и уходят. (Господи, кому, спрашивается, интересны интимные мои отношения с баней?) «Данилыч посылаю хвост Матвеева вот до чего паразитство доходит». Бобры, как известно, наивны и беззащитны, словно стеллеровы коровы. Совершенно непонятно, почему они живы до сих пор. Так что дело это подсудное, нехорошее, чреватое — уж во всяком случае — немедленным вышибом из лесников и вещественной уликой — в лице хвоста — сразу и безусловно доказанное. Все действующие лица и их исполнители были поэтому вызваны сейчас на ковер к директору заповедника и только тут, на центральной усадьбе, узнали — кроме, конечно, жены лесника Бурлагина — причину вызова. Так, пошла публицистика. Чего, значит, надо еще уметь — чтобы выжить? Да всё — надо, всё — остановись. А еще надо, чуть не забыла, — работать, платят-то, между прочим, за работу. Но в заповеднике так это все перевито-перепутано, работа, быт. На кордоне «Лежачий камень» (ишь ведь, иронию кто-то в название подпустил, там среди скал — только крутись, воды одной в обрыв натаскать — чего стоит) был лесник Левонтьев. Разлапистый, сильный вроде мужик. А три года без малого на кордоне прожил и всякий раз, когда шел на лыжах зимой в обход своего участка, привязывал сзади здоровенную еловую ветку, чтоб она широко волочилась за ним по следу и метила ему путь. Иначе он даже собственному следу не верил, что это — его след, боялся в тайге заблудиться. Компасу он тоже не верил, все подносил его к уху, словно это часы. Как он обходился летом в тайге, даже не представляю. Наверное, сыпал себе на след меченые атомы, чтобы фосфоресцировали. Или еще что-нибудь придумывал, ведь страх так изобретателен. И для чего-то почти три года мучил себя человек. Теперь он, по слухам, в Ставрополе, работает гардеробщиком в городском театре, рассказывает — небось — коллегам про таежные будни и ничего, может, не боится. Так пусто мне без Вас, как будто из камня высосана твердь, из солнца — свет, и сок желудочный — из самого желудка. Так можно, не заметив, помереть, сойти на нет. Душе моей так ново — зависимости чувство сознавать от голоса чужого. Так тускло мне без Вас, как будто хрустким пеплом мир накрыло, как — помню — на Курилах, когда извергся Тятя, было; теплый пепел коровы втягивали жадными ноздрями, он проступал на теплых их губах, а в их глазах качалась, словно баржа на волнах, печаль непониманья. Так серо мне без Вас, как будто — из глаза вынут взгляд, рассвет из утра, как будто из фламинго вдруг перья выдраны — где билась тайна жизни, ее кричащая багряность. Так скучно мне без Вас. Как будто — кругом чужая пьеса, в ней смысл, возможно, есть, я — тоже персонаж. Но нет ни сил, ни интереса — ее понять, хотя б — прочесть, тем более — войти в ее кураж… Кстати, последнее — ценное, что Тятя на Кунашире успел свершить, когда уже роскошно извергся и облегчил свою вулканью душу, был горячий ошметок, которым он запустил мне в спину. Но промахнулся и попал в рюкзак. А мы потом перебирались на Шикотан (Да, сейнер «Старательный», вся армада сейнеров, что паслась тогда между Кунаширом и Шикотаном в поисках сайры, носила откровенно и чисто стимулирующие имена — «Аккуратный», «Деятельный», «Работящий», кто-то, столкнувший их со стапеля в море, верил — значит — в заклятие словом и магию имени, как верили древние греки, и приговорил их к честному и самоотверженному труду. Он был прав, безымянный!), и с борта сейнера «Старательный» я видала в Море зеленое солнце. Может, бывалые моряки видают это каждый вечер, может, им это зеленое солнце давно уж осточертело, надо бы спросить Виктора Конецкого. Но мне удалось подглядеть это только один раз в жизни, а единственное — запоминается. Неотправленное письмо: «Досточтимый сэр! Входит ли теоретическая физика (в частности — квантовая механика) в круг Ваших интересов? Ощущая Вас как узкого гения, подозреваю, что — нет. Клянусь точкой как мельчайшей и неделимой единицей любого множества, Вы много потеряли. Как Вы считаете, что лучше — абсолютное знание или любознательное невежество? На первый взгляд кажется, что абсолютное знание не в пример лучше. Но, как нам с Вами известно, это не так. Ибо: что может быть выше и совершеннее абсолютного знания? Ничего. А любознательное невежество все-таки, согласитесь, живее и больше, чем ничего. Значит, любознательное невежество лучше, чем абсолютное знание, которое нам, увы, все равно не дано. *** *** *** Источник: https://www.litmir.me/br/?b=110503&p=6 *** *** РОМАН С ГЕРОЕМ КОНГРУЭНТНО РОМАН С СОБОЙ. Зоя Евгеньевна Журавлева. 001 РОМАН С ГЕРОЕМ КОНГРУЭНТНО РОМАН С СОБОЙ. Зоя Евгеньевна Журавлева. 014 РОМАН С ГЕРОЕМ КОНГРУЭНТНО РОМАН С СОБОЙ. Зоя Евгеньевна Журавлева. 027 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** --- --- ПОДЕЛИТЬСЯ --- *** *** *** Затерянный мир. Артур Конан Дойл. 006 Метис яростно погрозил нам кулаком и скрылся. Наступила тишина. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крутые скалы справа, слева В гостях...у камня*** *** --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** --- АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Прикрепления: Картинка 1 | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |