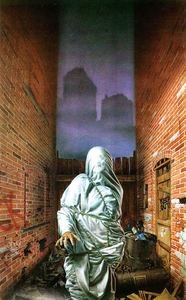23:23 Хождение по мукам. 016 | ||||||||||||
*** *** Она взяла стул и села рядом с Телегиным. Он положил руки на скатерть, стиснул их и, поглядывая на Дашу, быстро, мельком, начал рассказывать о плене и о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо, рот ее приоткрылся. Рассказывая, Иван Ильич слушал, как голос его звучит точно издалека — чужой, и сами складываются слова, а он весь потрясен и взволнован тем, что рядом, касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо — девушка, родная, жуткая, непонятная совершенно, и пахнет от нее не то лесной полянкой, не то цветами — чем-то теплым, кружащим голову. Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру: — Катюша, понимаешь, — приговорили его к расстрелу, ты только вдумайся!.. Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку, отделявшую от смерти, рванувшуюся, наконец, машину и ветер, кинувшийся в лицо, — свобода, жизнь! — Даша страшно побледнела, схватила его за руку: — Мы вас никуда больше не отпустим. Телегин засмеялся: — Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод. Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вгляделась внимательно, на щеки ее взошел легкий румянец, она освободила руку: — Почему вы не курите? Я вам принесу спичек. Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробкой спичек, остановилась перед Иваном Ильичом и начала чиркать спички, держа их за самый кончик, они ломались, — ну уж и спички наша Лиза покупает! — наконец, спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший снизу ее нежный подбородок. Телегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытать такое счастье, закуривая папиросу. Катя за все это время молча следила за Дашей и Телегиным. Ей было невыносимо грустно, и она сдерживалась, чтобы не заплакать. Из памяти ее не выходил не забытый, как она надеялась, совсем не забытый милый Вадим Петрович Рощин: он так же сидел с ними за столом и так же однажды она принесла ему спичек и сама зажгла, не сломав ни одной. В полночь Телегин ушел. Даша, крепко обняв, поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, она думала, что вот, вынырнула, наконец, из душного тумана, — кругом еще дико и пусто, и жутковато, но все — синее, но это — счастье. *** 32На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казенный пакет с назначением немедленно явиться на Обуховский завод в распоряжение главного инженера. Радость по поводу этого, остаток дня, проведенный с Дашей в суете по городу, торопливое прощанье на Николаевском вокзале, затем — купе второго класса, с сухим теплом и пощелкивающим отоплением, и неожиданно найденный в кармане пакетик, перевязанный ленточкой, и в нем — два яблока, шоколад и пирожки, — все это было как во сне. Иван Ильич расстегнул пуговки на воротнике суконной рубахи, вытянул ноги и, не в силах согнать с лица глупейшей улыбки, глядел на соседа напротив, — неизвестного, строгого старичка в очках. — Из Москвы изволите ехать? — спросил старичок. — Да, из Москвы. — Боже, какое это было чудесное, любовное слово — Москва!.. переулки, залитые осенним солнцем, сухие листья под ногами, легкая, тонкая Даша, идущая по этим листьям, ее умный, ясный голос, — слов он не помнил никаких, — и постоянный запах яблока, когда он наклонялся к ней или целовал ее руку. — Содом, содомский город, — сказал старичок, — три дня прожил у вас на Кокоревском подворье… Насмотрелся… — Он раздвинул ноги, обутые в сапоги и высокие калоши, и плюнул. — На улицу выйдешь: люди — туда-сюда, — что такое?.. По лавкам бегают, на извозчиках гоняют, торопятся… Какая причина? А ночью: свет, шум, вывески, все это вертится, крутится… Народ валит валом… Чепуха, бессмыслица!.. Господи, да это Москва!.. Отсюда земля пошла… А вижу я что: бесовская, бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях бывали, ранены?.. Это я сразу вижу… Скажите мне, старику, — неужели за эту суету окаянную у нас там кровь льется? Где отечество? Где вера? Где царь? Укажите мне. Я вот за нитками сейчас в Петроград еду… Да провались они, эти нитки!.. Тьфу!.. Глаза бы не глядели… С чем я в Тюмень вернусь, что привезу — нитки?.. Нет, я не нитки привезу, а приеду, скажу: люди, пропали мы все, вот что я привезу… Попомните мое слово, молодой человек, — поплатимся, за то именно, что там, где человеку нужно тихо пройти, он раз тридцать пробежит… За эту бессмыслицу отвечать придется… — Старичок, опираясь о колени, поднялся и опустил шторку на окне, за которым в темноте летели паровозные искры огненными линиями. — Бога забыли, и Бог нас забыл… Вот что я вам скажу… Будет расплата, ох, будет расплата жестокая… — Что же вы думаете: немцы нас, что ли, завоюют? — спросил Иван Ильич. — Кто их знает. Кого Господь пошлет карателем — от того и примем муку… Послушайте, — у меня, скажем, в лавке молодцы начали безобразничать… Потерплю, потерплю, да ведь, одному — по затылку, другого — взашей, третьего мордой ткну… А Россия разве лавочка? Господь милосерд, но когда люди к Нему дорогу загадили, — надо дорогу чистить или нет, а? Вот про что я говорю… Не в том дело, молодой человек, чтобы по средам, пятницам мясного не жрать, а — посерьезнее… Я говорю: Бог от мира отошел… Страшнее этого быть ничего не может… Старичок сложил руки на животе, закрыл глаза и, строго поблескивая очками, потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купе и стал в проходе у окна, почти касаясь стекла лицом. Сквозь щелку проникал свежий, острый воздух. За окном, в темноте, летели, перекрещивались, припадали к земле огненные линии. Проносилось иногда серое облако дыма. Постукивали послушно колеса вагонов. Вот завыл протяжно паровоз, заворачивая, осветил огнем из топки черные конуса елей, — они выступили из темноты и пропали. Простучала стрелка, мягко колыхнулся вагон, мелькнул зеленый щиток фонаря, и снова огненным дождем понеслись вдоль окна длинные линии. Глядя на них, Иван Ильич с внезапной, потрясающей радостью почувствовал во всю силу все, что случилось с ним за эти пять дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это свое чувство, — его бы сочли сумасшедшим. Но для него не было в этом ничего ни странного, ни безумного: все необыкновенно ясно. Он чувствовал: в ночной темноте движутся, мучаются, умирают миллионы миллионов людей. Всем этим миллионам миллионов кажется, будто они живые люди. Но они живы лишь условно, и все, что происходит сейчас на земле, — условно, почти кажущееся. Настолько почти кажущееся, что, если бы он, Иван Ильич, сделал бы еще одно усилие, все бы изменилось, стало иным. И вот, среди этого кажущегося существует живая сердцевина: это его, Ивана Ильича, пригнувшаяся к окну фигура. Это — возлюбленное существо. Оно вышло из мира теней и в огненном дожде мчится над темным миром. В нем сильно, в божественной радости, бьется сердце, бежит сок любви, — живая кровь. Это необыкновенное чувство любви к себе продолжалось несколько секунд. Он вошел в купе, влез на верхнюю койку, поглядел, раздеваясь, на свои большие руки и в первый раз в жизни подумал, что они красивы. Он закинул их за голову, закрыл глаза и сейчас же увидел Дашу. Она взволнованно, влюбленно глядела ему в глаза. (Это было сегодня, в столовой; Даша заворачивала пирожки, Иван Ильич, обогнув стол, подошел к ней и поцеловал ее в теплое плечо, она быстро обернулась, он спросил: «Даша, вы будете моей женой?» Она не ответила и только взглянула.) Сейчас, на койке, видя Дашино лицо и не насыщаясь этим видением, Иван Ильич, также в первый раз в жизни, почувствовал ликование, восторг от того, что Даша любит его, — того, у кого большие и красивые руки. Сердце его отчаянно билось. * * * По приезде в Петроград Иван Ильич в тот же день явился на Обуховский завод и был зачислен в мастерские, в ночную смену. На заводе многое изменилось за эти три года: рабочих увеличилось втрое, часть была молодежь, часть переведена с Урала, часть взята из действующей армии. Прежнего рабочего — полуголодного, полупьяненького, озлобленного и робкого — не осталось и в помине. Рабочие зарабатывали хорошие деньги, читали газеты, ругали войну, царя, царицу, Распутина и генералов, были злы и все уверены, что после войны «грянет революция». В особенности злы были все на то, что в городских пекарнях в хлеб начали примешивать труху, и на то, что на рынках по нескольку дней иногда не бывало мяса, а бывало, так — вонючее, картошку привозили мерзлую, сахар — с грязью, и к тому же — продукты все вздорожали, а лавочники, скоробогачи и спекулянты, нажившие на поставках, платили в это время по пятьдесят рублей за коробку конфет, по сотне за бутылку шампанского и слышать не хотели замиряться с немцем. Зачислясь на завод, Иван Ильич получил для устройства личных дел трехдневный отпуск и все это время бегал по городу в поисках квартиры. Отчетливо он не представлял себе — для чего ему нужна квартира, но тогда, лежа в купе, он сообразил, что необходимо снять изящную квартиру с белыми комнатами, с синими занавесками, с чисто вымытыми окнами. Он пересмотрел десятки домов, — ему ничто не нравилось: то была стена напротив, то обстановка слишком аляповата, то чересчур мрачно. Но в последний день, неожиданно, он нашел именно то, что представилось ему тогда в вагоне: пять небольших белых комнат с чисто вымытыми окнами, обращенными на закат. Квартира эта, в конце Каменноостровского, была дороговата для Ивана Ильича, но он ее сейчас же снял и написал об этом Даше. На четвертую ночь он поехал на завод. На черном от угольной грязи дворе горели на высоких столбах фонари. Дым из кирпичных труб сыростью и ветром сбивало к земле, желтоватой и душной гарью был насыщен воздух. Сквозь полукруглые, огромные и пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссий, двигались чугунные станины станков, сверля, стругая, обтачивая сталь и бронзу. Вертелись вертикальные диски штамповальных машин. В вышине бегали, улетали в темноту каретки подъемных кранов. Розовым и белым светом пылали горны. Потрясая землю короткими ударами, ходила гигантская крестовина парового молота. Из низких труб вырывались в темноту сырого неба столбы пламени. Человеческие фигуры не спеша двигались среди этого скрежета, грохота станков… Иван Ильич вошел в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повел его по мастерской, объясняя некоторые, неизвестные Телегину, особенности работы. Затем вошел с ним в дощатую конторку, в углу мастерской, где показал книги, ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал: «Мастерская дает двадцать три процента браку, этой цифры вы и держитесь». В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу, а Струков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило, он спросил: — Понизить процент брака, вы думаете, — невозможно? Струков, зевая, помотал головой, надвинул глубоко на нечесаную голову фуражку и вернулся с Иваном Ильичом к станкам: — Плюньте, батюшка. Не все ли вам равно, — ну, на двадцать три процента убьем меньше людей на фронте. К тому же ничего сделать нельзя, — станки износились, ну их к черту! Он остановился около пресса. Старый, коротконогий рабочий, в кожаном фартуке, наставил под штамп раскаленную болванку, рама опустилась, стержень штампа вошел, как в масло, в розовую сталь, выпыхнуло горючее пламя, рама поднялась и на земляной пол упал трехдюймовый шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку. Другой, молодой, высокий рабочий, с закрученными, черными усиками, возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал: — Что, Рублев, стаканчики-то все бракованные? — Старичок усмехнулся, — мотнул в сторону редкой бородкой и хитро, щелками глаз, покосился на Телегина. — Это верно, что бракованные. Видите, как она работает. — Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользила рама пресса. — В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовину выкинуть давно пора. Молодой рабочий у горна, сын Ивана Рублева, Васька, засмеялся: — Много бы надо отсюда повыкидать. Заржавела машина. — Ну, ты, Васька, полегче, — сказал Струков весело. — Вот то-то, что легче. — Васька тряхнул кудрявой головой, и красивое, слегка скуластое лицо его, с черными усиками и злыми, пристальными глазами, осклабилось недобро и самоуверенно. — Лучшие рабочие в мастерской, — отходя, негромко сказал Струков Ивану Ильичу. — Прощайте. Сегодня еду в «Красные бубенцы». Никогда там не бывали? Замечательный кабачок, и вино дают. * * * Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублевым. Его поразил тогда в разговоре почти условный язык слов, усмешек и взглядов, какими обменялся с ними Струков, и то, как они втроем словно испытывали Телегина: наш он или враг? По особенной легкости, с какою в последующие дни Рублевы вступали с ним в беседу, он понял, что он — «наш». Это «наш» относилось не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него чрезвычайно неопределенными, и не к его прошлому на заводе, а скорее к тому сильному ощущению счастья, какое испытывал всякий в его присутствии: источник какого-то огромного, всем доступного счастья был заключен в Иване Ильиче, и поэтому для всякого он был «наш». В ночные дежурства Иван Ильич часто, подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры. Васька Рублев был социалист, начитан и зол, и только и мог говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата, причем выражался книжно и лихо. Иван Рублев был старообрядец, хитрый, верующий, но совсем не богобоязненный старичок. Он говаривал: — У нас, в Пермских лесах, по скитам, в книгах, — все прописано: и эта самая война, и как от войны будет нам разорение, — вся земля наша разорится, и сколько останется народу, а народу останется самая малость… И как выйдет из лесов, из одного скита, человек и станет землей править, и править будет страшным Божьим словом. — Мистика, — говорил Васька, подмигивая. — Ах ты, подлец, невежа, слов нахватался… Социалистом себя кличет!.. Какой ты социалист, — станичник, сукин сын. Я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться: шапку на ухо, рубашку на себе изодрать, в глазах все дыбом лезет, песни орет, — «Вставай на борьбу…» С кем, за что?.. Баклушка осиновая! — Видите, как старичок выражается, — указывая на отца большим пальцем, говорил Васька, — анархист самый вредный, в социализме ни уха ни рыла не смыслит, а мне в порядке возражения кажный раз лезет в зубы. — Нет, — перебивал Иван Рублев, выхватывая из горна брызжущую искрами болванку, — нет, господа, — и, описав ею полукруг, ловко подставлял под опускающийся стержень пресса, — книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно… Вот, Васька заладил одно — свобода!.. Свобода ему нужна… А ты возьми ее: схвати дым рукой, — вот то-то. А смиренства нет ни у кого, об этом они не думают… Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени. — Фу, ты — путаница у тебя в голове, батя, — с досадой сказал Васька, — а давеча кричал: я, говорит, революционер. — Да, кричал. А тебе что? Я, брат, если что, — первый эти вилы-то схвачу. Мне зачем за царя держаться? — я мужик. Я сохой за тридцать лет знаешь сколько земли исковырял? С кашей я стану есть твою свободу? Мне земля нужна, а не эти твои чертовы орешки — он пихнул сапогом в кучу шрапнелей на полу, — революционер!.. Конечно, я революционер: мне, чай, спасение души дорого али нет?.. Васька только плюнул на это. Иван Ильич, засмеявшись, поднялся и потянулся. Ночь подходила к концу. * * * Телегин писал Даше каждый день, она отвечала ему реже. Ее письма были странные, точно подернутые ледком, и Иван Ильич испытывал чувство легонького озноба, читая их. Обычно он садился к окну и несколько раз прочитывал листок Дашиного письма, исписанный крупными, загибающимися вниз строчками. Потом глядел на лилово-серый лес на островах, на облачное небо, такое же мутное, как вода в канале, — опирался подбородком о подоконник, глядел и думал, что так именно и нужно, чтобы Дашины письма не были нежными, как ему по неразумию хочется, что Даша пишет их честно и внимательно, на душе ее — честно, тихо и строго, точно Великим Постом перед отпущением грехов. «Милый друг мой, — писала она, — вы сняли квартиру в целых пять комнат. Подумайте — в какие вы вгоняете себя расходы. Ведь, если даже придется вам жить не одному, — то и это много: пять комнат! А прислуга, — нужно держать двух женщин, это по нашему-то времени! Кажется, — залезть бы в щелку и сидеть там — не дышать… У нас, в Москве, — осень, холодно, дожди — просвета нет… Подождем весны…» * * * Как тогда, в день отъезда Ивана Ильича, Даша ответила только взглядом на вопрос его — будет ли она его женой, так и в письмах она никогда прямо не упоминала ни о свадьбе, ни о будущей жизни вдвоем. Нужно было ждать весны. Это ожидание весны и смутной, отчаянной надежды на какое-то чудо было теперь у всех. Жизнь останавливалась, заваливалась на зиму — сосать лапу. Наяву, казалось, не было больше сил пережить это новое ожидание кровавой весны. Однажды Даша написала: «…Я не хотела ни говорить вам, ни писать о смерти Бессонова. Но вчера мне опять рассказывали подробности его ужасной гибели. Иван Ильич, незадолго до его отъезда на фронт, я встретила его на Тверском бульваре. Он был очень жалок, и, мне кажется, — если бы я его тогда не оттолкнула, он бы не погиб. Но я оттолкнула его. Я не могла сделать иначе, и я бы так же сделала, если бы пришлось повторить прошлое. Его смерть лежит на мне, я принимаю это. Нужно, чтобы и вы это поняли». Телегин просидел полдня над ответом на это письмо… «Как можно думать, что я не приму всего, что с вами, — писал он очень медленно, вдумываясь, чтобы не покривить ни в одном слове. — Я иногда проверяю себя, — если бы вы даже полюбили другого человека, то есть случилось бы самое страшное, — то что со мной?.. Я принял бы и это… Я бы не примирился, нет: мое бы солнце потемнело… Но разве любовь моя к вам в одной радости? Я знаю чувство, когда хочется умереть, потому что слишком глубоко любишь… Так, очевидно, чувствовал Бессонов, когда уезжал на фронт… Пусть его имя будет свято… И вы, Даша, должны чувствовать, что вы бесконечно свободны… Я ничего не прошу у вас, даже любви… Я это понял за последнее время… Мне бы хотелось, действительно, стать нищим духом… Боже мой, боже мой, в какое тяжелое время мы любим!..» Через два дня Иван Ильич вернулся на рассвете с завода, принял ванну и лег в постель, но его сейчас же разбудили, — подали телеграмму: «Все хорошо. Люблю страшно. Твоя Даша»… Вечером, в одно из воскресений, инженер Струков заехал за Иваном Ильичом и повез его в «Красные бубенцы». Кабачок помещался в подвале, пропахшем табаком, винными и человеческими испарениями. Сводчатый потолок и стены были расписаны пестрыми птицами, голыми, ненатурального цвета и сложения, женщинами, младенцами с развращенными личиками и многозначительными завитушками. Было шумно и дымно. На эстраде сидел маленький лысый человек с дряблыми и нарумяненными щеками и перебирал клавиши рояля. Столики были заполнены. Несколько офицеров пили крепкий крюшон и оборачивались на проходивших женщин. Кричали, спорили присяжные поверенные, причастные к искусству. Громко хохотала царица подвала, черноволосая красавица с припухшими глазами. На краю одного из столиков Антошка Арнольдов, крутя прядь волос, писал корреспонденцию с фронта. У стены, на возвышении, уронив пьяную голову, дремал родоначальник футуризма — ветеринарный врач, с перекошенным, чахоточным лицом. В углу три молодых поэта кричали через весь подвал: «Спой, Костя, спой!»… Накрашенный старичок у рояля, не оборачиваясь, пробовал что-то запеть дребезжащим голосом, но его не было слышно. Хозяин подвала, бывший актер, длинноволосый и растерзанный, появлялся иногда в боковой дверце, глядел сумасшедшими глазами на гостей и скрывался. Третьего дня, под утро, его жена уехала из подвала с молодым гением-композитором прямо на Финляндский вокзал, — он пил и не спал третьи сутки. Струков, захмелевший от крюшона, говорил Ивану Ильичу: — Я почему люблю этот кабак? Такой гнили нигде не найдешь, — наслаждение… Посмотри — вон в углу сидит, одна, — худа, страшна, пошевелиться даже не может: истерия в последнем градусе, — пользуется страшным успехом… А вон тот, с лошадиной челюстью, — знаменитый Семисветов, выдернул себе передние зубы, чтобы не ходить воевать, и пишет стихи… «Не раньше кончить нам войну, как вытрем русский штык о шелковые венских проституток панталоны…» Эти стишки у него печатанные, а есть и непечатанные… «Чавкай железной челюстью, лопай человечье мясо, буржуй. Жирное брюхо лихо распорет наш пролетарский штык». Струков хохотнул, опрокинул в горло стакан с крюшоном и, не вытирая нежных, оттененных татарскими усиками губ, продолжал называть Ивану Ильичу имена гостей, указывать пальцем на непроспанные, болезненные, полусумасшедшие лица: — Здесь самая сердцевинка, зараза, рак, — он с удовольствием выговаривал слова, — отсюда гниль по всей нашей матушке ползет. Вы ведь, Иван Ильич, патриот, я знаю… Народник, интеллигент… А вот брызнуть бы на эту гниль кровушкой, окропить, ха, ха… Разбегутся по всей земле, кусаться станут, как бешеные… Погодите, дайте срок, лизнет кровушки, оживет эта сволочь, мертвецы, силу почуют, в право свое поверят… Как бешеные кинутся разворачивать все, начисто… Вот тогда матушка наша, проклятая, лопнет, весь мир гнилью окатит… Будь ты проклята! Струков сильно пьянел. Глаза его сухо, весело, странно поблескивали, и ругательства он произносил с той же, почти нежной, улыбкой. Телегин сидел, насупившись. У него кружилась голова от шума и пестроты подвала, от непонятного богохульства Струкова. Он видел, как сначала несколько человек, а затем и все в подвале повернулись к входной двери; разлепил желтые глаза ветеринарный врач; высунулось из-за стены сумасшедшее лицо хозяина; полумертвая женщина, сидевшая сбоку Ивана Ильича, подняла сонные веки, и вдруг глаза ее ожили, с непонятной живостью она выпрямилась, глядя туда же, куда и все… Зазвенел упавший стаканчик… Во входной двери стоял среднего роста пожилой человек, слегка выставив вперед плечо, засунув руки в карманы. Узкое лицо его с висящей бородой было веселое и улыбалось двумя глубокими, привычными морщинами, и впереди всего лица горели серым светом внимательные, умные, пронзительные глаза. Так продолжалось минуту. Из темноты двери к нему приблизилось другое лицо, чиновника, с тревожной усмешкой и прошептало что-то на ухо. Человек нехотя сморщил большой нос и сказал: — Опять ты со своей глупостью… Ах, надоел. — Он еще веселее оглянул гостей в подвале, мотнул снизу вверх черной бородой и сказал громко, развалистым голосом: — Ну, прощайте, дружки веселые. И сейчас же скрылся. Хлопнула дверь. Весь подвал загудел, как улей. Струков впился ногтями в руку Ивана Ильича: — Видел? Видел? — проговорил он, задыхаясь. — Это Распутин. *** 33В четвертом часу утра Иван Ильич шел пешком с завода. Была морозная декабрьская ночь. Извозчика не попадалось, — теперь их трудно было доставать даже в центре города в такой час. Телегин быстро шел посреди пустынной улицы, дыша паром в поднятый воротник. В свете редких фонарей было видно, как воздух весь пронизан падающими морозными иглами. Громко похрустывал под ногами, поскрипывал снег. Впереди, на желтом и плоском фасаде дома, мерцали красноватые отблески. Свернув за угол, Телегин увидел пламя костра в решетчатой жаровне и кругом закутанные, в облаках пара, обмерзшие фигуры. Подальше на тротуаре стояли, вытянувшись в линию, неподвижно, человек сто — женщины, старики и подростки: очередь у продовольственной лавки. Сбоку потоптывал валенками, похлопывал рукавицами ночной сторож. Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на приникшие к стене, закутанные в платки, в одеяла, скорченные фигуры. — Вчерась на Выборгской три лавки разнесли, начисто, — сказал один голос. — Только и остается. Третий голос проговорил: — Я вчерась спрашиваю керосину полфунта, — нет, говорит, керосину, больше совсем не будет, а Дементьевых кухарка тут же приходит и при мне пять фунтов взяла по вольной цене. — Почем? — По два с полтиной за фунт, девушка. — Это за керосин-то? — Так это не пройдет этому лавошнику, припомним, будет время. — Сестра моя сказывала: на Охте так же вот лавочника за такие дела взяли и в бочку с рассолом головой его засунули, — утоп он, милые, а уж как просился отпустить. — Мало мучили, — их хуже надо мучить. — А пока что — мы мерзни. — А он в это время чаем надувается. — Кто это чаем надувается? — спросил хриплый голос. — Да все они чаем надуваются. Моя генеральша встанет в двенадцать часов и до самой до ночи — трескает, — как ее, идола, не разорвет. — А ты мерзни, чахотку получай. — Это вы совершенно верно говорите, я уж кашляю. — А моя барыня, милые мои, — кокотка. Я вот вернусь с рынка, а у нее — полна столовая мущин, и все они в подштанниках, пьяные. Сейчас потребуют яичницу, хлеба черного, водки, — словом, что погрубее… — Английские деньги пропивают, — проговорил чей-то голос уверенно. — Что вы, в самом деле, говорите? — Все продано, — уж я вам говорю — верьте: вы тут стоите, ничего не знаете, а вас всех продали, на пятьдесят лет вперед, в кабалу. И армия вся продана. — Господи! Дожили до чего! — Не Господи, а надо сознательно относиться: почему вы тут мерзнете, а они на перинах валяются? Кого больше: вас или их? Идите, вытащите их из перин, да сами на их место лягте, а они пускай в очереди стоят… После этих слов, сказанных тем же мужским, уверенным голосом, наступило молчание. Затем кто-то спросил, стукая зубами: — Господин сторож, а, господин сторож? — Что случилось? — Соль выдавать будут нынче? — По всей вероятности, соли выдавать не будут. — Для чего же я тут жду, легкие простудила? — Ах, проклятые! — Пятый день соли нет. — Кровь народную пьют, сволочи. — Ладно вам, бабы, орать — горло застудите, — сказал сторож густым басом. Телегин миновал очередь. Затих злой гул голосов, и опять прямые улицы были пустынны, тонули в тяжелой, морозной мгле. * * * Иван Ильич дошел до набережной, свернул на мост и, когда ветер рванул полы его пальто, — вспомнил, что надо бы найти все-таки извозчика, но сейчас же забыл об этом. Далеко, на том берегу, едва заметные, мерцали точки фонарей. Линия тусклых огоньков пешего перехода тянулась наискось через лед. По всей темной, широкой пустыне Невы летел студеный ветер, звенел снегом, жалобно посвистывал в трамвайных проводах, в прорези чугунных перил моста. Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шел, думая, как часто он думал теперь, все об одном и том же: о той минуте в вагоне, когда весь он, словно огнем изнутри, был охвачен счастьем, ощущением самого себя. Это чувство счастья было словно огонек в темноте: кругом все — неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилие, чтобы спокойно сказать: я жив, счастлив, моя жизнь будет светла и прекрасна. Тогда, у окна, среди искр летящего вагона, сказать это было легко, сейчас нужно было огромное усилие, чтобы отделить себя от тех полузастывших фигур в очередях, от воющего смертной тоской декабрьского ветра, от осязания всеобщей убыли, нависающей гибели. Иван Ильич был уверен в одном: любовь его к Даше, Дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, — в этом было добро, выше ничего не было в жизни. Уютный, старый, быть может, слишком тесный, но дивный храм жизни содрогнулся и затрещал от ударов войны, заколебались колонны, во всю ширину треснул купол, посыпались старые камни, и вот среди пыли, летящего праха и грохота рушащегося храма два человека, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии любви, наперекор всему, пожелали быть счастливы. Верно ли это? Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающей тоской посвистывает ветер, Иван Ильич думал: «Не грех, нет, нет, — но выше всего желание счастья. Я создан по образу и подобию Божьему, я не желаю разрушения моего образа, но я хочу преображения его, — счастья. Я хочу наперекор всему, — пусть. Могу я уничтожить очереди, накормить голодных, остановить войну? — Нет. Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? — Нет, не должен. Но могу ли я, буду ли счастлив?..» Иван Ильич перешел мост и, уже совсем не замечая дороги, шагал по набережной. Здесь ярко горели высокие, качаемые ветром, электрические фонари. По оголенным торцам летела с сухим шорохом снежная пыль. Окна Зимнего дворца были темны и пустынны. У полосатой будки, где нанесло сугроб, стоял великан-часовой в тулупе и с винтовкой, прижатой скрещенными руками к груди. На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и еще быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый им в спину. Ему казалось, что он мог бы сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную, простую истину, и все бы поверили в нее. Он бы сказал: «Вы видите, — так жить дальше нельзя: на ненависти построены государства, ненавистью проведены границы, каждый из вас — маленький клубок ненависти, — крепость с наведенными во все стороны орудиями. Жить — тесно и страшно. Весь мир задохнулся в ненависти, — люди истребляют друг друга, текут реки крови. Вам этого мало? Вы еще не прозрели? Вам нужно, чтобы и здесь, в каждом доме, человек резал человека? Опомнитесь, бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна вольному ветру. Пусть крестный ход пройдет по всей земле и окропит ее живой водой во Имя Духа Святого, — Им только мы живем. Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников… Неисчерпаемы недра земли, — всем достанется места… Разве не видите, что вы все еще во тьме отжитых веков…» Читать дальше ...*** ОГЛАВЛЕНИЕ - Хождение по мукам Слушать - https://knigavuhe.org/book/khozhdenie-po-mukam-1/?ysclid=m47nkt6e4y333922690 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Источники : https://4italka.site/proza-main/klassicheskaya_proza/499490/fulltext.htm https://онлайн-читать.рф/а-н-толстой-хождение-по-мукам/ https://litmarket.ru/books/khozhdenie-po-mukam?ysclid=m47nsbd5tk260811826 https://ru.wikisource.org/wiki/Хождение_по_мукам_(Толстой)/1._Сестры https://mybook.ru/author/aleksej-nikolaevich-tolstoj/sestry/read/?ysclid=m47njqy93x637916162 https://www.livelib.ru/book/1000461161 https://fantlab.ru/work44827?ysclid=m47my0s4vx361307269 http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0220.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0210.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0200.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/ --- Хождение по мукам — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — трилогия романов А. Н. Толстого, прослеживающая судьбы русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. --- Хождение по мукам (фильм) — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — историческая драма, полнометражный художественный фильм в трёх частях по одноимённому роману Алексея Толстого, его первая экранизация. --- Слушать - https://knigavuhe.org/book/khozhdenie-po-mukam-1/?ysclid=m47nkt6e4y333922690 *** *** Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть вторая. Аудиокнига. --- Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год. Аудиокнига. ... Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть вторая. Аудиокнига. --- --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть первая. Аудиокнига --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть вторая. Аудиокнига. *** *** --- Алексей Толстой. Хождение по мукам (1957-1959) *** *** Хождение по мукам 1977 год 1 - 6 серия *** --- Хождение по мукам 1977 год 7 - 13 серия *** https://fantlab.ru/autor532 ... Алексей Николаевич Толстой
Жанры:
Алексей Николаевич Толстой родился ... в городе Николаевске (ныне – Пугачев) Самарской губернии в семье помещика. Детские годы прошли на хуторе Сосновка, принадлежавшем отчиму писателя – Алексею Бострому, служившему в земской управе города Николаевска, — этого человека Толстой считал своим отцом и до тринадцати лет носил его фамилию. Родного отца, графа Николая Александровича Толстого, офицера лейб-гвардии гусарского полка и знатного самарского помещика, маленький Алеша почти не знал. ... Первоначальное образование Алеша получил дома под руководством приглашенного учителя. В 1897 семья переезжает в Самару, где будущий писатель поступает в реальное училище. Окончив его в 1901, едет в Петербург, чтобы продолжать образование. Поступает на отделение механики Технологического института. К этому времени относятся его первые стихи, не свободные от влияния творчества Некрасова и Надсона. Толстой начал с подражания, о чем свидетельствует вышедший в 1907 году первый его сборник стихов «Лирика», которого он потом чрезвычайно стыдился, — настолько, что старался о нем даже никогда не упоминать. В 1907, незадолго до защиты диплома, оставил институт, решив посвятить себя литературному труду. Вскоре он «напал на собственную тему»: «Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых... Это была художественная находка». После повестей и рассказов, составивших позже книгу «Заволжье», о нем стали много писать (появился одобрительный отзыв А. М. Горького), но сам Толстой был собой недоволен: «Я решил, что я писатель. Но я был неучем и дилетантом...» Еще в Петербурге он, находясь под влиянием А.М.Ремизова, взялся за изучение народного русского языка «по сказкам, песням, по записям «Слова и дела», то есть судебным актам XVII века, по сочинениям Аввакума.. Увлечение фольклором дало богатейший материал для «Сорочьих сказок» и пронизанного сказочно-мифологическими мотивами поэтического сборника «За синими реками», издав который Толстой решил более стихов не писать. ...В те первые годы, годы накопления мастерства, стоившие Толстому невероятных усилий, чего он только не писал — рассказы, сказки, стихи, повести, причем все это в огромных количествах! — и где только не печатался. Он работал не разгибая спины. Романы «Две жизни» («Чудаки» — 1911), «Хромой барин» (1912), рассказы и повести «За стилем» (1913), пьесы, которые шли в Малом театре и не только в нем, и многое другое — все было результатом неустанного сидения за рабочим столом. Даже друзья Толстого изумлялись его работоспособности, ведь, помимо всего прочего, он был завсегдатаем множества литературных сборищ, вечеринок, салонов, вернисажей, юбилеев, театральных премьер. После начала первой мировой войны он, как военный корреспондент от «Русских ведомостей», находится на фронтах, побывал в Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне (рассказы «На горе», 1915; «Под водой», «Прекрасная дама», 1916). В годы войны обратился к драматургии — комедии «Нечистая сила» и «Касатка» (1916). Октябрьскую революцию Толстой воспринял враждебно. В июле 1918 года, спасаясь от большевиков, Толстой вместе с семьей перебрался в Одессу. Такое впечатление, что происходившие в России революционные события совершенно не затронули написанные в Одессе повесть «Граф Калиостро» — прелестную фантазию об оживлении старинного портрета и прочих чудесах — и веселую комедию «Любовь — книга золотая». === *** *** *** *** *** *** *** === *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** --- --- ПОДЕЛИТЬСЯ ---
--- --- --- --- --- --- --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- --- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ---
--- *** ***
АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Всего комментариев: 0 | |