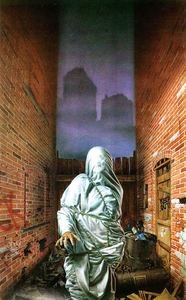03:40 Хождение по мукам. 014 | ||||||||||||
|
*** Катя перебила поспешно: — Нет, нет… Я все знаю… И вы тоже знаете обо мне… — Екатерина Дмитриевна, вы… Отчаянным голосом Катя крикнула: — Да, видите сами!.. Умоляю вас — уходите… У Даши в руках задрожала вазочка с вареньем. Там в гостиной молчали. Наконец, Катя проговорила совсем тихо: — Господь вас сохранит… Уходите, Вадим Петрович… — Прощайте. Он вздохнул коротко. Послышались его шаги, и хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола, закрыла лицо, и между пальцами ее проступили и потекли капли слез. С тех пор об уехавшем она не говорила ни слова, да и говорить-то было не о чем, — хватило бы только силы вырвать из сердца, забыть эту ненужную муку, возникшую в сумерки от не вовремя затосковавшего по любви глупого сердца. Катя мужественно переносила боль, хотя по утрам вставала с покрасневшими глазами, с припухшим ртом. Рощин прислал с дороги открытку — поклон сестрам, — письмецо это положили на камин, где его засидели мухи. * * * Каждый вечер сестры ходили на Тверской бульвар — слушать музыку, садились на скамью и глядели, как под деревьями гуляют девушки и подростки, в белых и розовых платьях, — очень много женщин и детей; реже проходил военный с подвязанной рукой или инвалид на костыле. Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии». Ту, ту, ту, — печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую, худую руку и тихонько целовала. — Катюша, Катюша, — говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями, — ты помнишь: О, любовь моя, незавершенная, В сердце холодеющая нежность… Я верю — если мы будем мужественны, мы доживем до такого времени, когда можно будет любить, не думая, не мучаясь… Ведь мы знаем теперь, — ничего на свете нет выше любви. Мне иногда кажется, приедет из плена Иван Ильич совсем иной, новый. Сейчас я люблю его одиноко, как-то бесплотно, но очень, очень верно. Но мы встретимся так, точно мы любили друг друга в какой-то другой жизни, и вот теперь — и родные и дикие, — понимаешь — страшновато… Что-то будет, что-то будет?.. Я чувствую иногда, как у меня все сердце стало прозрачное. Прижавшись щекой к ее плечу, Екатерина Дмитриевна говорила: — А у меня, Данюша, такая горечь, такая темнота на сердце, совсем оно стало старое. Ты увидишь хорошие времена, а уж я не увижу, отцвела пустоцветом. — Катюша, стыдно так говорить. — Да, девочка, нужно быть мужественной. В один из таких вечеров на скамейку, на другой ее конец, сел какой-то военный. Оркестр играл старый вальс. За деревьями зажигались неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что Даше стало неловко шее. Она обернулась и вдруг испуганно, негромко воскликнула: — Нет! Рядом с ней сидел Бессонов, тощий, облезлый, в мешком висящем френче, в фуражке с красным крестом. Поднявшись, он молча поздоровался. Даша сказала: «Здравствуйте», и поджала губы, Екатерина Дмитриевна отклонилась на спинку скамьи, в тень Дашиной шляпы, и закрыла глаза. Бессонов был, точно, не то весь пыльный, не то немытый — серый. — Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня, — сказал он Даше, поднимая брови, — но подойти не решался… Уезжаю воевать. Вот видите — и до меня добрались. — Как же вы едете воевать, вы же в Красном Кресте, — сказала Даша с внезапным раздражением. — Положим, опасность, сравнительно, конечно, меньшая. А, впрочем, мне глубоко все безразлично, — убьют, не убьют… Скучно, скучно, Дарья Дмитриевна, — он поднял голову и поглядел ей на губы мутным, тусклым взглядом. — Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов… Катя спросила, не открывая глаз: — Вам скучно от этого? — Да, весьма скучно, Екатерина Дмитриевна. У меня раньше оставалась еще кое-какая надежда… Ну, а после этих трупов и трупов все полетело к черту… Создавалась какая-то культура, — чепуха, бред… Действительность — трупы и кровь, — хаос. Так вот… Дарья Дмитриевна, я, строго говоря, подсел к вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени. — Зачем? — Даша глядела ему в лицо, чужое, нездоровое, с злым, скверным ртом, и вдруг ей показалось с такой ясностью, что закружилась голова, — этого человека она видит в первый раз. — Я много думал над тем, что было в Крыму, — проговорил Бессонов, морщась, — я бы хотел с вами побеседовать, — он медленно полез в боковой карман френча за портсигаром, — я бы хотел рассеять некоторое невыгодное впечатление… Даша прищурилась, — ни следа на этом противном лице волшебства. Просто — человек с бульвара. И она сказала твердо: — Мне кажется — нам не о чем говорить с вами. — И отвернулась. Катина рука задрожала за ее спиной. Даша покраснела и нахмурилась: — Прощайте, Алексей Алексеевич. Бессонов скривил усмешкой желтые от табака, обветренные губы, приподнял картуз и отошел прочь. Даша глядела на его слабую спину, на слишком широкие панталоны, точно готовые свалиться, на тяжелые, пыльные сапоги, — неужели это был тот Бессонов — демон ее девичьих ночей? — Катюша, посиди, я сейчас, — проговорила она поспешно и побежала за Бессоновым. Он свернул в боковую аллею. Даша, запыхавшись, догнала его и взяла за рукав. Он остановился, обернулся, сжал рот. — Алексей Алексеевич, не сердитесь на меня. — Я-то не сержусь, вы сами не пожелали со мной разговаривать. — Нет же, нет… Вы не так меня поняли… Я к вам ужасно, ужасно хорошо отношусь, я вам хочу всякого добра… Но о том, что было между нами, не стоит вспоминать, прежнего ничего не осталось… Только я чувствую себя виноватой, мне вас жалко… Он поднял плечи, с усмешкой поглядел мимо Даши на гуляющих: — Благодарю вас за жалость. Даша вздохнула, — если бы Бессонов был маленьким мальчиком — она бы повела его к себе, вымыла теплой водицей, накормила бы конфетами, возилась бы до тех пор, покуда в глазах его не заблестела бы радость. А что она поделает с этим, — сам себе выдумал муку и мучается, сердится, обижается. — Алексей Алексеевич, если хотите — пишите мне каждый день, я буду аккуратно отвечать, — сказала Даша, глядя ему в лицо как можно добрее. Он откинул голову, захохотал деревянным, злым смехом: — Благодарю… Но у меня вот уже больше года отвращение к бумаге и чернилам… Он стиснул зубы, сморщился, точно хлебнул кислого: — Либо вы святая, Дарья Дмитриевна, либо вы дура… Не обижайтесь… Вы адская мука, посланная мне заживо, поняли?.. Два года я живу, как монах… Вот вам!.. Он сделал усилие отойти, но точно не мог оторвать ног. Даша стояла, опустив голову, — она все поняла, ей было печально, и на сердце чисто. Бессонов глядел на ее склоненную шею, на нетронутую, нежную грудь, видную в прорезе белого платья, и думал, что, конечно, это смерть. — Будьте милосердны, — сказал он простым, тихим, человеческим голосом. Она, не поднимая головы, прошептала сейчас же: — Да, да. — И прошла между деревьями. В последний раз Бессонов отыскал пронзительным взглядом в толпе ее светловолосую голову, — она не обернулась. Он положил руку на дерево, вцепился пальцами в зеленую кору: земля, последнее прибежище, уходила из-под ног. *** 26Тусклым шаром над торфяными, пустынными болотами висела луна. Курился туман по овражкам, по канавам брошенных траншей. Повсюду торчали пни, кое-где чернели низкорослые сосны. Было влажно и тихо. По узкой гати медленно, лошадь за лошадью, двигался санитарный обоз. Полоса фронта была всего верстах в трех за зубчатым очертанием леса, откуда не доносилось ни звука. В одной из телег в сене, навзничь, лежал Бессонов, прикрывшись попоной, пахнущей лошадиным потом. Каждую ночь с закатом солнца у него начиналась лихорадка, постукивали зубы от легонького озноба, все тело точно высыхало и в мозгу с холодным кипением проходили ясные, легкие, пестрые мысли. Это было дивное ощущение потери телесной тяжести. Натянув попону до подбородка, Алексей Алексеевич глядел в мглистое, лихорадочное небо, — вот он — конец земного пути: мгла, лунный свет и, точно колыбель, качающаяся телега; так, обогнув круг столетий, снова скрипят скифские колеса. А все что было — сны: огни Петербурга, музыка в сияющих, теплых залах, раскинутые на подушке волосы женщины, темные зрачки глаз, смертельная тоска взгляда… Скука, одиночество… Полусвет рабочей комнаты, дымок табаку, бьющееся от больного волнения сердце и упоение рождающихся слов… Девушка с белыми ромашками, стремительно вошедшая из света прихожей в его темную комнату, в его жизнь… И тоска, тоска, холодной пылью покрывающая сердце… Все это сны… Качается телега… Сбоку идет мужик с мочальной бородкой, в картузе, надвинутом на глаза; две тысячи лет он шагает сбоку телеги… Вот оно, раскрытое в лунной мгле, бесконечное пространство времени… Из темноты веков надвигаются тени, слышно, — скрипят телеги, черными колеями бороздят мир. Это гунны снова проходят землю. А там, в тусклом тумане, — обгоревшие столбы, дымы до самого неба, и скрип, и грохот колес. И скрип, и грохот громче, шире, все небо полно душу потрясающим гулом… Вдруг телега остановилась. Сквозь гул, наполняющий белесую ночь, слышались испуганные голоса обозных. Бессонов приподнялся на локте. Невысоко над лесом, пониже луны, плыла длинная, поблескивающая гранями, колонна, — повернулась, блеснула в лунном свету, ревя моторами, приблизилась, увеличилась, и из брюха ее появился узкий меч света, побежал по болоту, по пням, по сваленным деревьям, по ельнику и уперся в шоссе, в телеги. Сквозь гул послышались слабые и нежные звуки, — та, та, та, — точно быстро застучал метроном… С телег посыпались люди. Санитарная двуколка повернула на болото и опрокинулась… И вот, шагах в ста от Бессонова на шоссе вспыхнул ослепительный куст света, черной кучей поднялась на воздух лошадь, телега, взвился огромный столб дыма, и грохотом и вихрем раскидало весь обоз. Лошади с передками поскакали по болоту, побежали люди. Телегу, где лежал Бессонов, дернуло, повалило, и Алексей Алексеевич покатился под шоссе, в канаву, — в спину ему ударило тяжелым мешком, завалило соломой. Воздушный корабль бросил вторую бомбу, затем гул моторов его стал отдаляться и затих. Тогда Бессонов, охая, начал разгребать солому, с трудом выполз из навалившейся на него поклажи, отряхнулся и взобрался на шоссе. Здесь стояло несколько телег, боком, без передков; на болоте, закинув морду, лежала лошадь в оглоблях и, как заведенная, дергала задней ногой. Бессонов потрогал лицо и голову, — около уха было липко, он приложил к царапине платок и пошел по шоссе к лесу. От испуга и падения так дрожали ноги, что через несколько шагов пришлось присесть на кучу заскорузлого щебня. Хотелось выпить коньяку, но фляжка осталась с поклажей в канаве. Бессонов с трудом вытянул из кармана трубочку, спички и закурил, — табачный дым был горек и противен. Тогда он вспомнил о лихорадке, — дело плохо, во чтобы то ни стало нужно дойти до леса, там, ему говорили, стоит батарея. Бессонов поднялся, но ноги совсем отнялись, как деревянные едва двигались внизу живота. Он опять опустился на землю и стал их растирать, вытягивать, щипать, и когда почувствовал боль, — поднялся и побрел. Месяц теперь стоял высоко, дорога вилась во мгле через пустые болота, казалось — не было ей конца. Положив руки на поясницу, пошатываясь, с трудом поднимая и волоча пудовые сапоги, Бессонов говорил сам с собой: — Взяли и вышвырнули… Тащись, сукин сын, тащись, покуда не переедут колесами… Писал стишки, соблазнял глупеньких женщин… Жить было скучно… Но ведь это мое личное дело… Взяли и вышвырнули, — тащись, вот тебе на болоте точка, там околеешь… Можешь протестовать, пожалуйста… Протестуй, вой… Попробуй, попробуй, закричи пострашнее, завой… Бессонов вдруг обернулся. С шоссе вниз скользнула серая тень… Холодок прошел у него по спине. Он усмехнулся и, громко произнося отрывочные, бессмысленные фразы, опять двинулся посредине дороги… Потом осторожно оглянулся, — так и есть, шагах в пятидесяти за ним тащилась большеголовая, голенастая собака. — Черт знает что такое! — пробормотал Бессонов. И пошел быстрее, и опять поглядел через плечо. Собак было пять штук, они шли гуськом, опустив морды, — серые, вислозадые. Бессонов бросил в них камушком: — Вот я вас!.. Пошли прочь, пакость… Звери молча шарахнулись вниз, на болото. Бессонов набрал камней в полу одежды и время от времени останавливался и кидал их… Потом шел дальше, свистал, кричал, — эй, эй!.. Звери вылезали из-под шоссе и опять тащились гуськом, не приближаясь. С боков дороги начался низкорослый ельник. И вот на повороте Бессонов увидал впереди себя человеческую фигуру. Она остановилась, вглядываясь, и медленно ушла в тень ельника. — Черт! — прошептал Бессонов и тоже попятился в тень, и стоял долго, стараясь преодолеть удары сердца. Остановились и звери неподалеку. Передний лег, положил морду на лапы. Человек впереди не двигался. Бессонов с отчетливой ясностью видел белое, как плева, длинное облако, находящее на луну. Затем раздался звук, иглою вошедший в мозг, — хруст сучка под ногой, должно быть, того человека. Бессонов быстро вышел на середину дороги и зашагал, с бешенством сжимая кулаки. Наконец, направо, он увидел его, — это был высокий солдат, сутулый, в накинутой шинели, длинное, безбровое лицо его было как неживое — серое, с полуоткрытым большим ртом. Бессонов крикнул: — Эй ты, — какого полка? — Со второй батареи. — Поди проводи меня на батарею. Солдат молчал, не двигаясь, — глядел на Бессонова мутным взором, потом повернул лицо налево: — Это кто же энти-то? — Собаки, — ответил Бессонов нетерпеливо. — Ну, нет, это не собаки. — Идем, поворачивайся, проводи меня. — Нет, я не пойду, — сказал солдат тихо. — Послушай, у меня лихорадка, пожалуйста, доведи меня, я тебе денег дам. — Нет, я туда не пойду, — солдат повысил голос, — я дезертир. — Дурак, тебя же поймают. — Все может быть. Бессонов покосился через плечо, — звери исчезли, должно быть зашли за ельник. — А далеко до батареи? Солдат не ответил. Бессонов повернулся, чтобы идти, но солдат сейчас же схватил его за руку у локтя, крепко, точно клещами: — Нет, вы туда не пойдете… — Пусти руку. — Не пущу! — Не отпуская руки, солдат смотрел в сторону, повыше ельника. — Я третий день не евши… Давеча задремал в канаве, слышу — идут… Думаю, значит, часть идет. Лежу. Они идут, множество, — идут, идут и все в ногу, гул по шоссе… Что за история? Выполз я из канавы, гляжу, — они идут в саванах, по всему шоссе, конца-краю нет… Как туман, колыхаются, и земля под ними дрожит… — Что ты мне говоришь? — закричал Бессонов диким голосом и рванулся. — Говорю верно, а ты верь, сволочь!.. Бессонов вырвал руку и побежал точно на ватных, не на своих ногах. Вслед затопал солдат сапожищами, тяжело дыша, схватил за плечо. Бессонов упал, закрыл шею и голову руками. Солдат, сопя, навалился, просовывал жесткие пальцы к горлу, — стиснул его и замер, застыл. — Вот ты кто, вот ты кто оказался! — шептал солдат сквозь зубы. Когда по телу лежащего прошла длинная дрожь, оно вытянулось, опустилось, точно расплющилось в пыли, солдат отпустил его, встал, поднял картуз и, не оборачиваясь на то, что было сделано, пошел по дороге. Пошатнулся, мотнул головой и сел, опустив ноги в канаву. — Ох, смерть моя! — громко, протяжно проговорил солдат. — Господи, отпусти… *** 27После неудавшегося побега из концентрационного лагеря Иван Ильич Телегин был переведен в крепость, в одиночное заключение. Здесь он замыслил второй побег и в продолжение шести недель подпиливал оконную решетку. Но в середине лета, неожиданно, всю крепость эвакуировали, и Телегин, как штрафной, попал в так называемую «Гнилую Яму». Это было страшное и удручающее место: в широкой котловине на торфяном поле стояли квадратом четыре длинных барака, обнесенные колючей проволокой. Вдалеке, у холмов, где торчали кирпичные трубы, начиналась узкоколейка, ржавые ее рельсы тянулись через все болото и кончались неподалеку от бараков у глубокой выемки — месте прошлогодних работ, на которых от тифа и дизентерии погибло более пяти тысяч русских солдат. На другой стороне буро-желтой равнины поднимались неровными зубцами лиловые Карпаты. На север от бараков, сейчас же за проволокой, далеко по болоту, виднелось множество сосновых крестов. В жаркие дни над равниной поднимались испарения, жужжали овода, в лицо липли мошки, солнце стояло красновато-мутное, распаривая, разлагая это безнадежное место. Содержание здесь было суровое и голодное. Половина офицеров болела желудками, лихорадкой, нарывами, сыпью. Несколько человек умерло. Но все же в лагере было приподнятое настроение — Брусилов с сильными боями шел вперед, французы били немцев в Шампани и под Верденом, турки очищали Малую Азию. Конец войны, казалось, теперь уже по-настоящему не далек. И заключенные в «Гнилой Яме», стиснув зубы, переносили все лишения, — к Новому году все будем дома. Но миновало лето, начались дожди, Брусилов остановился, не взяв ни Кракова, ни Львова, затихли кровавые бои на французском фронте, — Союз и Согласие зализывали раны. Ясно, что конец войны снова откладывался на будущую осень. Вот тогда-то в «Гнилой Яме» началось отчаяние. Сосед Телегина по нарам, Вискобойников, бросил вдруг бриться и умываться, целыми днями лежал на неприбранных нарах, полузакрыв глаза, не отвечая на вопросы. Иногда привставал и, ощерясь, с ненавистью, скреб себя ногтями. На теле его то появлялись, то пропадали розоватые лишаи. Ночью однажды он разбудил Ивана Ильича и глухим голосом проговорил: — Телегин, ты женат? — Нет. — У меня жена и дочь в Твери. Ты их навести, слышишь. — Перестань, Яков Иванович, спи. — Я, братец мой, крепко засну. Под утро, на перекличке, Вискобойников не отозвался. Его нашли в отхожем месте, висящим на тонком ременном поясе. Весь барак проснулся. Офицеры теснились около тела, лежащего навзничь на полу. Фонарь, стоявший в головах, освещал изуродованное гадливой мукой, костлявое лицо и на груди под разорванной рубашкой следы расчесов. Свет фонаря был грязный, лица живых, нагнувшиеся над трупом, — опухшие, желтые, искаженные. Один из них, поручик Мельшин, обернулся в темноту барака и громко сказал: — Что же, товарищи, молчать будем? По толпе, по нарам прошел глухой ропот. Входная дверь бухнула, появился заспанный австрийский офицер, комендант лагеря, толпа раздвинулась, пропустила его к мертвому телу, и сейчас раздались резкие голоса: — Молчать не будем. — Замучили человека. — У них система. — Я сам заживо гнию. — Не желаем. Требуем перевода. — Мы не каторжники. — Мало вас били, окаянных… Поднявшись на цыпочки, комендант крикнул: — Молчать! Все по местам. Русские свиньи! — Что?.. Что он сказал?.. — Мы русские свиньи?! Сейчас же к коменданту протиснулся коренастый человек, заросший спутанной бородой, штабс-капитан Жуков. Поднеся короткий палец к самому лицу австрийского офицера, он закричал рыдающим голосом: — А вот палец мой видел, сукин ты сын, это ты видел? — И, замотав косматой головой, схватил коменданта за плечи, бешено затряс его, повалил и навалился. Офицеры, тесно сгрудясь над борющимися, молчали… Но вот послышались хлопающие по доскам шаги бегущих солдат, и комендант закричал: «На помощь!» Тогда Телегин, бывший в это время сзади, растолкал товарищей и, говоря: «С ума сошли, он же его задушит», — обхватил Жукова за плечи, рванул и оттащил от австрийца. «Вы негодяй!» — крикнул он коменданту по-немецки. Жуков тяжело дышал, разинув рот. «Пусти, я ему покажу — свиньи», — проговорил он тихо. Но комендант уже поднялся, надвинул на глаза смятую кепи, быстро и пристально, точно запоминая, взглянул в лицо Жукову, Телегину, Мельшину и еще двум, трем стоявшим около них офицерам и, твердо звякая шпорами, пошел прочь из барака. Дверь сейчас же заперли, у входа поставили двух часовых. В это утро не было ни переклички, ни барабана, ни желудевого кофе. Около полудня в барак вошли солдаты с носилками и вынесли тело Вискобойникова. Дверь опять была заперта. Офицеры разбрелись по нарам, многие легли. В бараке стало совсем тихо, — дело было ясное: бунт, покушение и — военный суд. Иван Ильич начал этот день как обычно, не отступая ни от одного из им самим предписанных правил, которые строго соблюдал вот уже больше года: в шесть утра накачал в ведро коричневатую воду, облился, растерся, проделал сто одно гимнастическое движение, следя за тем, чтобы хрустели мускулы, оделся, побрился и, так как кофе сегодня не было, натощак сел за немецкую грамматику. Самым трудным и разрушающим в плену было физическое воздержание. На этом многие пошатнулись: один вдруг начинал пудриться, подмазывать глаза и брови, шушукался целыми днями с таким же напудренным молодцом, другой — сторонился товарищей, валялся, завернувшись с головой в тряпье, немытый, неприбранный, иной принимался сквернословить, приставать ко всем с чудовищными рассказами и, наконец, выкидывал что-нибудь столь непотребное, что его увозили в лазарет. Ото всего этого было одно спасение — суровость. За время плена Телегин стал молчалив, тело его, покрытое броней мускулов, подсохло, стало резким в движениях, глаза точно выцвели, — побелели, в них появился холодный, упрямый блеск, — в минуту гнева или решимости они были страшны. Сегодня Телегин тщательнее, чем обычно, повторил выписанные с вечера немецкие слова и раскрыл истрепанный томик Шпильгагена. На нары к нему присел Жуков. Иван Ильич, не оборачиваясь, продолжал читать вполголоса. Вздохнув, Жуков проговорил: — Я на суде, Иван Ильич, хочу сказать, что я сумасшедший. Телегин быстро взглянул на него. Розовое, добродушное лицо Жукова с широким носом, кудрявой бородой, с мягкими, теплыми губами, видными сквозь заросли спутанных усов, было опущено, виновато; светлые ресницы часто мигали: — Дернуло с этим пальцем проклятым соваться, — сам теперь не пойму, что я и доказать-то хотел. Иван Ильич, я понимаю — виноват, конечно… Выскочил с пальцем, подвел товарищей… Я так решил — скажусь сумасшедшим… Вы одобряете? — Слушайте, Жуков, — ответил Иван Ильич, закладывая пальцем книгу, — несколько человек из нас во всяком случае расстреляют… Вы это знаете? Да, понимаю. — Не проще ли будет не валять дурака на суде… Как вы думаете?.. — Так-то оно так, конечно. — Никто из товарищей вас не винит. Только цена за удовольствие набить австрияку морду слишком высока. — Иван Ильич, а мне-то самому каково — подвести товарищей под военный суд! — Жуков махнул стиснутым кулачком, замотал волосатой головой. — Хоть бы они, сволочи, меня одного закатали — все бы легче. Он долго еще говорил в том же роде, но Телегин, уже не слушая его, продолжал читать Шпильгагена. Затем встал и, потянувшись, хрустнул мускулами. В это время с треском распахнулась наружная дверь и вошли четыре солдата с примкнутыми штыками, встали по сторонам двери, брякнули затворами винтовок; минуту спустя вошел фельдфебель, мрачный человек с повязкой на глазу, оглянул барак и глухим, свирепым голосом крикнул: — Штабс-капитан Жуков, поручик Мельшин, подпоручик Иванов, подпоручик Убейко, прапорщик Телегин… Названные подошли. Фельдфебель внимательно оглянул каждого, солдаты окружили их и повели из барака через двор к дощатому домику — комендантской. Здесь стоял недавно прибывший военный автомобиль. Колючие рогатки, закрывающие проезд через проволоку на дорогу, были раздвинуты. Около полосатой будки неподвижно стоял часовой. В автомобиле, завалившись на сиденье у руля, сидел шофер, мальчишка, с обезьяньим смуглым личиком, с надвинутым на глаза огромным козырьком фуражки. Телегин тронул локтем идущего рядом с ним Мельшина. — Умеете управлять машиной? — Умею, а что? — Молчите. Их ввели в комендантскую. За сосновым столом, прикрытым розовой промокательной бумагой, сидели трое приехавших австрийских обер-офицеров. Один, иссиня выбритый, с багровыми пятнами на толстых щеках, курил сигару. Телегин заметил, что он не взглянул даже на вошедших, — руки его лежали на столе, пальцы сунуты в пальцы, толстые и волосатые, глаз прищурен от сигарного дыма, воротник врезался в шею. «Этот уже решил», — подумал Телегин. Другой судья, председательствующий, был худой старик с длинным, грустным лицом в редких и чисто промытых морщинах, с пушисто-белыми усами. Бровь его была приподнята моноклем. Он внимательно оглядел обвиняемых, перевел большой, сквозь стекло, серый глаз на Телегина, — глаз был ясный, умный и ласковый, — усы у него задрожали, он опустил лицо. «Совсем плохо», — подумал Иван Ильич и взглянул на третьего судью, перед которым лежали черепаховые очки и четвертушка мелко исписанной бумаги. Это был приземистый, землисто-желтый человек, с жесткими волосами ежиком, с большими, как пельмени, ушами. Он морщился, точно от несварения желудка. По всему было видно, что это служака из неудачников. Когда подсудимые выстроились перед столом, он не спеша надел круглые очки, разгладил исписанный листок сухонькой ладонью и, неожиданно широко открыв желтые, вставные зубы, начал читать обвинительный акт. Сбоку стола, сдвинув брови, сжав рот, сидел пострадавший комендант. Телегин напрягал внимание, чтобы вслушаться в слова обвинения, но помимо воли мысль его остро и торопливо работала в ином направлении. «…Когда тело самоубийцы было внесено в барак, несколько русских воспользовались этим, чтобы возбудить своих товарищей к открытому неповиновению власти, и начали выкрикивать бранные и возмутительные выражения, угрожающе потрясая кулаками. Так, в руках у поручика Мельшина оказался раскрытый перочинный нож…» Через окно Иван Ильич видел, как мальчик-шофер ковырял пальцем в носу, потом повернулся бочком на сиденье и совсем надвинул на лицо козырек. К автомобилю подошли два низкорослых солдата в накинутых на плечи голубых капотах, постояли, поглядели, один, присев, потрогал пальцем шину. Затем оба они повернулись, — во двор въезжала кухня, из трубы ее мирно шел дымок. Кухня повернула к казармам, куда лениво побрели и солдаты. Шофер не поднял головы, не обернулся, — значит, заснул. Телегин, кусая от нетерпения губы, опять стал вслушиваться в скрипучий голос обвинителя. «…Вышеназванный штабс-капитан Жуков, с явным намерением угрожая жизни господина коменданта, предварительно пытался схватить его пальцами за нос, что, вполне очевидно, имело целью опорочить честь Императорского Королевского мундира…» При этих словах комендант поднялся и, покрывшись багровыми пятнами, подробно начал объяснять судьям малопонятную историю с пальцем штабс-капитана. Сам Жуков, плохо понимая по-немецки, изо всей мочи вслушивался, порывался вставить словечко, с доброй, виноватой улыбкой оглядывался на товарищей и, не выдержав, проговорил по-русски, обращаясь к обвинителю: — Господин полковник, позвольте доложить, — я ему говорю: — за что вы нас, за что?.. По-немецки не знаю как выразиться, значит, пальцем ему показываю. — Молчите, Жуков, — сказал Иван Ильич сквозь зубы. Председатель постучал карандашом. Обвинитель продолжал чтение. Описав, каким образом и за какое именно место Жуков схватил коменданта и, «опрокинув его навзничь, надавливал ему большими пальцами на горло с целью причинить смерть», полковник перешел к наиболее щекотливому месту обвинения: «…Русские толчками и криками подстрекали убийцу; один из них, именно — прапорщик Иоган Телегин, услышав шаги бегущих солдат, бросился к месту происшествия, отстранил Жукова, и только одна секунда отделяла господина коменданта от смертельной развязки». — В этом месте обвинитель, приостановившись, самодовольно улыбнулся. — «Но в эту секунду появились дежурные нижние чины, — следуют имена, — и прапорщик Телегин успел только крикнуть своей жертве: — негодяй». За этим следовал остроумный психологический разбор поступка Телегина, «как известно, дважды пытавшегося бежать из плена»… Полковник, безусловно, обвинял Телегина, Жукова и Мельшина, который подстрекал к убийству размахиванием перочинным ножом. Чтобы обострить силу обвинения, полковник даже выгородил Иванова и Убейко, «действовавших в состоянии умоисступления». По окончании чтения комендант подтвердил, что именно так все и было. Допросили солдат; они показали, что первые трое обвиняемых, действительно, виновны, про вторых двух — ничего не могут знать. Председательствующий, потерев худые руки, предложил Иванова и Убейко от обвинения освободить за недоказанностью улик. Багровый офицер, докуривший до губ сигару, кивнул головой, обвинитель после некоторого колебания тоже согласился. Тогда двое из конвойных вскинули ружья. Телегин сказал: «Прощайте, товарищи». Иванов опустил голову, Убейко, молча, с ужасом, взглянул на Ивана Ильича. Их вывели, и председательствующий предоставил слово обвиняемым. — Считаете вы себя виновным в подстрекательстве к бунту и покушении на жизнь коменданта лагеря? — спросил он Телегина. — Нет. — Что же именно вы желаете сказать по этому делу? — Обвинение от первого до последнего слова чистая ложь. Комендант с бешенством вскочил, требуя объяснения, председательствующий знаком остановил его. — Больше вы ничего не имеете прибавить к вашему заявлению? — Никак нет. Телегин отошел от стола и пристально посмотрел на Жукова. Тот покраснел, засопел и на вопросы повторил слово в слово все, сказанное уже Телегиным. Так же отвечал и Мельшин. Председательствующий выслушивал ответы, устало закрыв глаза. Наконец, судьи поднялись и удалились в соседнюю комнату, где в дверях багровый офицер, шедший последним, выплюнул сигару и, подняв руки, сладко потянулся. — Расстрел, — я это понял, как мы вошли, — сказал Телегин вполголоса и обратился к конвойному: — Дайте мне стакан воды. Солдат торопливо подошел к столу и, придерживая винтовку, стал наливать из графина мутную воду. Иван Ильич быстро, в самое ухо, прошептал Мельшину: — Когда нас выведут, постарайтесь завести мотор. Мельшин, шепотом же, закрыв глаза, ответил: — Понял. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Источники : https://4italka.site/proza-main/klassicheskaya_proza/499490/fulltext.htm https://онлайн-читать.рф/а-н-толстой-хождение-по-мукам/ https://litmarket.ru/books/khozhdenie-po-mukam?ysclid=m47nsbd5tk260811826 https://ru.wikisource.org/wiki/Хождение_по_мукам_(Толстой)/1._Сестры https://mybook.ru/author/aleksej-nikolaevich-tolstoj/sestry/read/?ysclid=m47njqy93x637916162 https://www.livelib.ru/book/1000461161 https://fantlab.ru/work44827?ysclid=m47my0s4vx361307269 http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0220.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0210.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0200.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/ --- Хождение по мукам — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — трилогия романов А. Н. Толстого, прослеживающая судьбы русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. --- Хождение по мукам (фильм) — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — историческая драма, полнометражный художественный фильм в трёх частях по одноимённому роману Алексея Толстого, его первая экранизация. --- Слушать - https://knigavuhe.org/book/khozhdenie-po-mukam-1/?ysclid=m47nkt6e4y333922690 *** *** Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть вторая. Аудиокнига. --- Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год. Аудиокнига. ... Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть вторая. Аудиокнига. --- --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть первая. Аудиокнига --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть вторая. Аудиокнига. *** *** --- Алексей Толстой. Хождение по мукам (1957-1959) *** *** Хождение по мукам 1977 год 1 - 6 серия *** --- Хождение по мукам 1977 год 7 - 13 серия *** https://fantlab.ru/autor532 ... Алексей Николаевич Толстой
Жанры:
Алексей Николаевич Толстой родился ... в городе Николаевске (ныне – Пугачев) Самарской губернии в семье помещика. Детские годы прошли на хуторе Сосновка, принадлежавшем отчиму писателя – Алексею Бострому, служившему в земской управе города Николаевска, — этого человека Толстой считал своим отцом и до тринадцати лет носил его фамилию. Родного отца, графа Николая Александровича Толстого, офицера лейб-гвардии гусарского полка и знатного самарского помещика, маленький Алеша почти не знал. ... Первоначальное образование Алеша получил дома под руководством приглашенного учителя. В 1897 семья переезжает в Самару, где будущий писатель поступает в реальное училище. Окончив его в 1901, едет в Петербург, чтобы продолжать образование. Поступает на отделение механики Технологического института. К этому времени относятся его первые стихи, не свободные от влияния творчества Некрасова и Надсона. Толстой начал с подражания, о чем свидетельствует вышедший в 1907 году первый его сборник стихов «Лирика», которого он потом чрезвычайно стыдился, — настолько, что старался о нем даже никогда не упоминать. В 1907, незадолго до защиты диплома, оставил институт, решив посвятить себя литературному труду. Вскоре он «напал на собственную тему»: «Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых... Это была художественная находка». После повестей и рассказов, составивших позже книгу «Заволжье», о нем стали много писать (появился одобрительный отзыв А. М. Горького), но сам Толстой был собой недоволен: «Я решил, что я писатель. Но я был неучем и дилетантом...» Еще в Петербурге он, находясь под влиянием А.М.Ремизова, взялся за изучение народного русского языка «по сказкам, песням, по записям «Слова и дела», то есть судебным актам XVII века, по сочинениям Аввакума.. Увлечение фольклором дало богатейший материал для «Сорочьих сказок» и пронизанного сказочно-мифологическими мотивами поэтического сборника «За синими реками», издав который Толстой решил более стихов не писать. ...В те первые годы, годы накопления мастерства, стоившие Толстому невероятных усилий, чего он только не писал — рассказы, сказки, стихи, повести, причем все это в огромных количествах! — и где только не печатался. Он работал не разгибая спины. Романы «Две жизни» («Чудаки» — 1911), «Хромой барин» (1912), рассказы и повести «За стилем» (1913), пьесы, которые шли в Малом театре и не только в нем, и многое другое — все было результатом неустанного сидения за рабочим столом. Даже друзья Толстого изумлялись его работоспособности, ведь, помимо всего прочего, он был завсегдатаем множества литературных сборищ, вечеринок, салонов, вернисажей, юбилеев, театральных премьер. После начала первой мировой войны он, как военный корреспондент от «Русских ведомостей», находится на фронтах, побывал в Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне (рассказы «На горе», 1915; «Под водой», «Прекрасная дама», 1916). В годы войны обратился к драматургии — комедии «Нечистая сила» и «Касатка» (1916). Октябрьскую революцию Толстой воспринял враждебно. В июле 1918 года, спасаясь от большевиков, Толстой вместе с семьей перебрался в Одессу. Такое впечатление, что происходившие в России революционные события совершенно не затронули написанные в Одессе повесть «Граф Калиостро» — прелестную фантазию об оживлении старинного портрета и прочих чудесах — и веселую комедию «Любовь — книга золотая». === *** *** *** *** *** *** *** === *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** --- --- ПОДЕЛИТЬСЯ ---
--- --- --- --- --- --- --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- --- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ---
--- *** ***
АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Всего комментариев: 0 | |