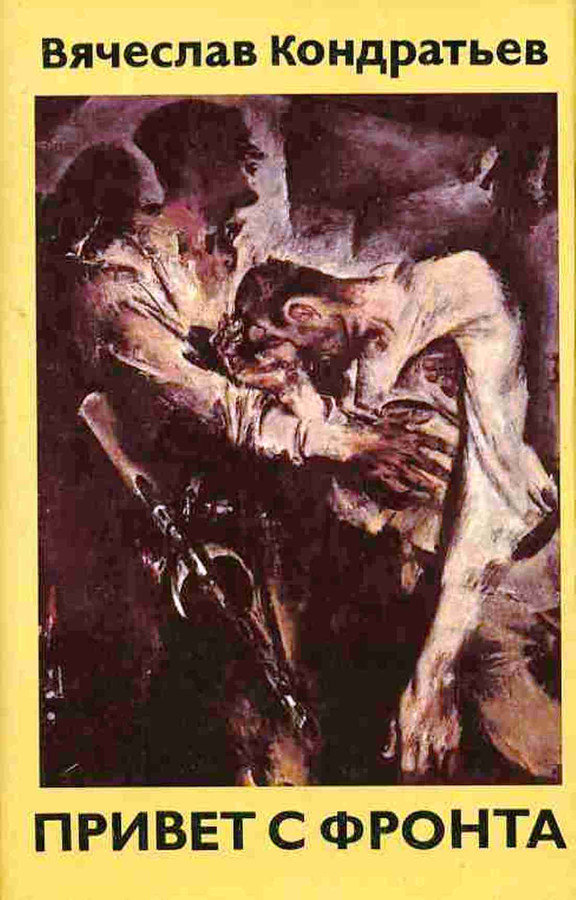14:23 Привет с фронта. Рассказ. Кондратьев Вячеслав Леонидович. 02 | |
|
***
Я фыркнула, словно кошка, которую погладили против шерстки, состроила гримасу, показала язык, потом потерла лоб рукой, что выражало у меня крайнюю степень озабоченности и недоумения, и надулась… Тоже мне, умник! Это я-то не углубляюсь в суть? Да что он понимает во мне, этот Ведерников! Всегда и все были в восторге от блеска моего ума, тем самым постоянно подтверждая мое собственное высокое мнение о нем. Ну, я ему сейчас покажу! Я побежала в процедурку, достала лист бумаги и начала строчить ему ответ. Я вообще была скора на ответы. Остроумные реплики вылетали у меня без всякого напряжения с моей стороны, и моего язычка побаивались не только мои подружки, но даже и старшая сестра, которая тоже в карман за словами не лезла, тем более что окончила филологический факультет и воображала из себя невесть что. Но в моей обойме всегда оказывались словечки похлестче, и выдавала я их на секунду побыстрее, чем она. Начала я, разумеется, с иронической благодарности лейтенанту Ведерникову за то, что взялся он учить меня, убогую, уму-разуму. Правда, видимо, по причине своей необыкновенной тупости я как-то не заметила в его письмах особого блеска интеллекта и потому немного удивлена, что он взялся за такое неблагодарное дело, так как, сколько б он ни бился, вряд ли я смогу углубляться в суть, ведь женский ум короток, а волос длинен, и так далее и тому подобное… Вылив в своем очень остроумном, на собственный взгляд, письме свое раздражение, я опять потерла свой лоб и задумалась… Через некоторое время перечитала свой шедевр и… разорвала. Если от своей внешности я не была в восхищении, то мой ум не вызвал у меня никаких сомнений. Им я была довольна! И всякие усомнения в его значительности со стороны других приводили меня в бешенство. Но все-таки какие-то крупинки самокритики где-то находились, правда, в небольшом количестве, поэтому даже такие осторожные и застенчивые замечания Ведерникова ввергли меня если не в бездну отчаяния, то, во всяком случае, в очень неприятные размышления о своей возможной поверхностности. Я с горечью вспомнила, как в школьном драмкружке мне поручались всегда роли комические, несмотря на то, что в душе я всегда была актрисой трагической… Неужели у меня смешная внешность? А раз так, значит, мой интеллект не нашел выражения в моей физиономии. Значит, он вещь в себе. Пришлось опять обратиться к зеркалу, и я — уж какой миллионный раз — стала разглядывать свое лицо. Да… Даже о глазах нельзя сказать, как пишется в книгах, что "ее глаза светились умом". Нет! Ничего не светилось! А челка? Господи, совсем детская нелепая челка, закрывающая начисто мое "высокое чело". Может, именно от нее у меня такой глупый вид? Но я так к ней привыкла, что, убирая ее иногда, чувствовала себя словно раздетой. В общем, я вышла из процедурки расстроенная и потерявшая в чем-то свою былую уверенность в неотразимости своего ума, немного обозленная на Ведерникова, и решила остаться сегодня вечером на танцы, чтоб рассеяться, проверить свои чары и обрести душевное равновесие. "Ничего, что ты пришел усталый и виски покрыты сединой…" — пел женский голос, когда я входила в наш зал, а несколько пар уже танцевали. Я остановилась у дверей, приняла независимый вид и небрежную позу (губы сложились в еле заметную загадочную улыбку) и стала ждать приглашений… Ждала я недолго. Ко мне подошел высокий интересный эстонец, и мы пошли танцевать. Надо сказать, что ранбольные эстонцы и вообще прибалтийцы пользовались у наших девочек большим успехом. Были они все рослые, какие-то аккуратные, всегда чисто побритые и очень, очень вежливые. Нравился нам и их акцент совсем как иностранцы! Танцевать я любила до умопомрачения. Танец меня так захватывал, что я находилась будто в экстазе. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но предполагаю, что не очень умное. Эстонец танцевал хорошо и очень целомудренно, держась от меня на почтительном расстоянии. Мне это понравилось. Я терпеть не могла, когда меня зажимали. Сразу начинала брыкаться. Поэтому я согласилась и на второй танец. К концу вечера эстонец мне определенно понравился, особенно тем, что, провожая меня к выходу из госпиталя, не сделал попытки ни приобнять меня, ни поцеловать, а очень скромно, но горячо пожал мне руку и поблагодарил за доставленное удовольствие. Было в них, прибалтийцах, что-то старомодное, как мне тогда казалось. Потом-то я поняла, что это была просто настоящая воспитанность, которой, увы, не особо отличались наши русские ребята. Письмо Ведерникову я не написала ни в тот вечер, ни в следующие дни пусть маленько помучается. Но не было писем и от него. Прошла неделя. Когда приносили почту, я неслась сломя голову на второй этаж, где ее раздавали, но письма мне все не было и не было. И вот, возвращаясь в свое отделение расстроенная, поникшая, — я столкнулась на лестнице с Артуром (так звали эстонца). — Ниночка, что с вами? — спросил он. — Нет писем, — ответила я кратко. — О, понимаю. И давно он не пишет? — Целую неделю. — Ну, это, как у вас говорится, ничего, — улыбнулся он. — Он писал почти каждый день. — А кто он, если это не секрет, Ниночка? — Ба, — вспомнила я. — Он ведь лежал в вашем отделении. Ведерников, Юра. Вы его знаете? — А, Юра… Очень хорошо знаю. — Какой он? — Как какой? — удивился Артур. — Вы получаете от него письма и не знаете, какой он? — Ага. — Как же это так? — Ну, так получилось… Мы не были знакомы, когда он лежал. А потом он написал… — Очень странный случай, — покачал головой Артур, улыбнувшись. — Так какой он из себя-то хоть? — опять спросила я. — Он очень хороший, как это говорится… парень? — Ага. — Только он очень молодой, по-моему. — Ему уже двадцать. — Я думал, еще меньше… Очень жаль, Ниночка, очень… — Что вам жаль? — Я хотел… поухаживать за вами, но теперь… теперь не могу. Юра вам пишет, и он на фронте. Вы не беспокойтесь, Ниночка, неделя — это ничего, мало ли что? Почта задержала, или перебросили их на другой участок. Это бывает… Артур повернулся и отошел от меня. Меня тронуло благородство эстонца, но стало и чуточку обидно — значит, не очень-то я ему нравлюсь, раз он так легко отказался от меня. А с другой стороны, то, что Артур признал этим какое-то право Ведерникова на меня, несмотря на "очень странный случай", как-то уверило меня в том, что наши отношения с Ведерниковым серьезны, раз их признают другие. В этот же вечер я настрочила большущее письмо. И было в нем уже искреннее беспокойство его молчанием, но было и много глупостей. Письма я писала всегда с ходу, не очень-то задумываясь. Слова вылетали из меня, как воздух из проткнутого иголкой воздушного шарика, а обыкновенные события окрашивались в разнообразные тона, смотря по настроению, — либо в юмористические, либо в трагические. Так, почему-то довольно комический случай, происшедший недавно, в письме к Ведерникову превратился в "огромную неприятность", которую мне пришлось испытать. А случилось вот что. Однажды в ночное дежурство, чтоб разогнать сон, я вышла в наш холл и перед большим трюмо начала разучивать па какого-то бального танца. Делала я это самозабвенно, напевая мотив и воображая, что я кружусь в танце с кем-то… Нет, это был не Юра Ведерников, не Артур, а кто-то необыкновенный, которого я пока не знала, но который обязательно войдет в мою жизнь, и, разумеется, навсегда… Выражение моего лица в тот момент можно себе представить. И вот в самую потрясающую минуту, когда мы окончили танец и я царственно-небрежным движением протягивала ему свою руку, которую он должен был поцеловать, раздался саркастический смех… У меня упало сердце, кровь бросилась в лицо, я обернулась, и — о господи! — напротив меня стояла наша старшая сестра и, держась за живот, хохотала. Но так как смеяться весело, добродушно она не умела, то смех ее был противный, скрипучий, а глаза злые. — О, Нинка в своем репертуаре! Какого принца ты воображала? — спросила она, перестав смеяться, но кривясь в уничтожающей ухмылке. В первый раз в жизни я не нашлась, что ответить этой двадцатисемилетней старой деве, которая сама уже не способна ни на какие чувства, и, выскочив из холла, понеслась по коридору, но как только я набрала хорошую спринтерскую скорость, так с ходу шмякнулась во что-то мягкое, пружинистое, которое отбросило меня назад… Я подняла глаза, и, о ужас, передо мной стоял, пошатываясь, наш главврач, в живот которого я и угодила. Я метнулась в сторону и, обойдя его справа, рванула вперед. На другой день, конечно, весь госпиталь знал о происшествии, и, завидев меня, все встречные и поперечные давились смехом. А так как мое хорошо развитое чувство юмора не всегда распространялось на мою собственную персону и часто покидало меня в такие моменты, то я страшно переживала. Но прошло несколько дней, и я оправилась от конфуза и уже не обращала внимания на усмешки и довольно едкие подковырки нашей старшей, тем более что мне все же удалось изловчиться и сделать блестящий, почти смертельный выпад, правда, не очень красивый, но "на войне как на войне". Странно, вообще-то я почти всем нравлюсь. Я весела, общительна, обаятельна (чего скромничать!), но есть какая-то категория особ женского пола, которые меня органически не выносят. Наша Алка (старшая сестра) как раз к ней и относится. Прошла еще неделя, а писем от Ведерникова все не было… Я не на шутку волновалась, а так как все мои переживания отпечатывались на моей физиономии один к одному, то мне стали выражать сочувствие и мои подружки и ранбольные. Не один раз заходил и Артур в наше отделение, справляясь, не получила ли я письма. Я отвечала печальным голосом, что все еще нет, и в моих глазах стояла "вельтшмерц". Он покачивал, по своему обыкновению, головой и успокаивал меня всевозможными предположениями, которые могли служить причинами молчания Ведерникова. Я не совсем так представляла себе ту большую и несчастную любовь, которая обязательно должна прийти ко мне, но несомненным было уже то, что я несчастна, так как не получаю писем от него. Правда, я почему-то не думала, что с Ведерниковым что-нибудь случилось. Несмотря на то что война являлась к нам каждый день с каждой партией вновь прибывших раненых, мы все же реально, по-настоящему как-то ее не представляли, и отчасти потому, что письма ребят, уехавших после госпиталя на фронт, были всегда какие-то легкие, даже веселые. Они не писали нам правды. И потому молчание Ведерникова не связывалось пока у меня с предчувствиями о его ранении или гибели, а скорей с тем, что он увлекся какой-нибудь связисткой из штаба, о которых он писал, и забыл меня. А это, право, было бы очень обидно. Впервые отнесся ко мне человек серьезно, называл на "вы", мечтал поцеловать мне руку, и вдруг… Неужели я все еще такая девчонка, что ко мне нужно относиться только с эдакой шутливой ласковостью, как ко мне все относятся: "Ниночка, сестреночка…" — будто я совсем маленькая. Похлопают по мордашке, вот и вся ласка. Ой, как хочется мне быть немного постарше! Ну, хотя бы на два годика! А то все девятнадцать, девятнадцать, и тянется это целую вечность… И вдруг…
"Привет с фронта! Здравствуйте, Нина! Простите, что долго не писал. Нас перебросили на другой участок. Был длительный марш, в котором было трудно выбрать время для писем. В связи с этим и от Вас я ничего не получил и получу, наверное, не скоро. В первые дни на новом месте было много работы — копали землю. Но я думал о Вас все время. Когда мы стояли недалеко от передовой, приезжала к нам кинопередвижка и крутила нам старый фильм — "Тайга золотая", а через несколько дней развлекли нас настоящие артисты. Ну, может, не очень настоящие, но все-таки… пропели "Катюшу", "В землянке" и какую-то глупую песенку про поваров и уехали. Мы остались не очень довольными. Хотелось бы чего-нибудь более серьезного. Но, правда, с удовольствием посмотрели на артисток в длинных концертных платьях, хотя было это и странно. Мне уже кажется, что Москва, госпиталь были уже очень давно, а вот Вы будто только вчера расстался. Как Вы живете? Ходите ли на танцы, в кино? Откровенно говоря, я очень боюсь, что Вам кто-нибудь понравится и Вы перестанете мне писать. Давайте договоримся, что, несмотря ни на что, Вы все равно будете присылать мне письма. Я так уже привык к ним, что без них мне будет очень трудно. Договорились? Вы, конечно, читали "Гранатовый браслет" Куприна. Так вот, мне хочется в конце каждого своего письма писать то, что писал Желтков. Вы помните, что он писал? Разумеется, помните! Но мне неудобно, что я не нашел своих слов и повторяю чужие, поэтому не пишу их, но, честное слово, они выражают мои чувства к Вам…"
На свой пятый этаж я поднималась по лестнице не бегом, как обычно, а медленно, осторожно, словно боясь расплескать то, что находилось у меня в душе, а все встречные, удивляясь моей величавой неспешности и значительности на моем лице, разумеется, сразу догадывались о причине этого и спрашивали: — Получила письмо, Нинок? — И, не дожидаясь моего ответа, добавляли: Конечно, получила. По мордахе видно. Какое несчастье! Я совершенно не могу управлять своим лицом. Я словно открытая книга! И потому у меня не может быть никаких тайн. Все наружу. И что мне делать? Мне так хочется, чтоб у меня была тайна. Видно, не надо было рассказывать девочкам о письмах Ведерникова, но я-то рассказала как курьез: лежал парень, лежал, чуть ли не три месяца, словом не обмолвился, а потом вдруг накатал почти любовное письмо. Смешно же? Вот и разболтала ради смеха. А сейчас жалею. Сейчас захотелось, чтоб ни одна душа не знала об этих письмах. Чтоб было это только мое… Может, написать ему свой адрес и попросить писать на квартиру? Но там мать. Начнутся расспросы. Не знаю, что делать. Но пока-то все знали про мою переписку, и однажды подошла ко мне Клавка вальяжная такая сестра, очень красивая, на мой взгляд, с такой умопомрачительной походкой, что ранбольные любого возраста открывали рты и, замерев, провожали ее долгими взглядами, а лица у них становились совсем идиотскими, — и спросила меня, как всегда лениво цедя слова: — У тебя что, серьезно с этим лейтенантиком? — Ага. Очень, — ответила я. Клавка снисходительно усмехнулась. — Послушай меня, девочка. Ты еще совсем цыпленок, а поэтому слушай, что я тебе скажу. Знаешь, как проверить, серьезно он к тебе относится или просто со скуки пишет? — Не знаю. Скажи, — заинтересовалась я. — Намекни ему в письме, что у тебя очень тяжелая жизнь в материальном отношении, а это есть самая настоящая правда… Или ты, может, очень хорошо живешь? — Нет, конечно. — Ну так вот. И скажи, что некоторым девочкам их ребята высылают аттестаты. Если любят, конечно… — Что ты, Клавка! — растерялась я. — Ты слушай и не перебивай. Если он этот твой намек не поймет или, вернее, сделает вид, что не поймет, значит, это пустое дело, и ты плюнь. Нечего бумагу зря марать. Ну а если у парня серьезные намерения, то он твой намек поймет и вышлет аттестат. Поняла? Я поняла! Но у меня было такое чувство, будто меня из помойного ведра окатили. Я поморщилась, но все-таки спросила Клавку: — А тебе высылают? — А как же! И не один… — И ты за всех замуж обещалась выйти? — Разумеется. — А как же будет, если они все приедут? — Глупенькая. Война еще ох какая долгая будет. Хорошо, если хоть один уцелеет. Я не нашлась что сказать, а Клавка поплыла дальше, покачивая бедрами, а стоящие в коридоре на перекуре ранбольные ошалело глядели ей вслед до тех пор, пока она не завернула в процедурку, вильнув напоследок задом так, что ребята даже охнули. Вот она какая, эта Клавка, оказалась, думала я, ища и не находя слова, каким ее можно обозвать. И только в туалете, в который я побежала мыть руки после этого разговора, у меня вспыхнуло в голове это слово — мародерка! Да, да, мародерка! Весь этот день я ходила какая-то хмурая, все валилось из моих рук, и я стала как-то подозрительно поглядывать на всех наших девочек: неужели среди них есть тоже такие? Да нет! У нас чудесные девчушки — милые, добрые, чистые… Но ощущение, что меня вымазали в какой-то грязи, не проходило несколько дней…
"Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!"
"Я, конечно, не получил от Вас еще письма, да это и понятно из-за перемены моего адреса. Но я чувствую, как оно идет где-то и приближается ко мне. На нашем участке пока тихо. Стоят чудесные дни. Вообще летом война легче. Не мерзнешь, ходишь в сухой одежде, снабжение регулярное. Мне очень досталось весной сорок второго на Северо-Западном фронте. Тогда залило водой все окопы, и мы ходили все промокшие до нитки. А здесь пока хорошо. Оборудовали по всем правилам свои позиции и не особенно тревожимся при артобстрелах и бомбежках. Да они и не очень часты. Главное начнется, наверно, не у нас. Нина, Вы, конечно, тоже задумывались о смысле жизни. Я начал думать об этом лет с шестнадцати и перечел уйму разных философов. Но потом этот вопрос как-то отошел от меня, и я думал — насовсем, но вот сейчас почему-то опять стал задумываться. Может, потому, что наша жизнь здесь очень однообразна и есть время для размышлений. Я прожил двадцать лет. И, конечно, ничего не успел в жизни сделать, да и не мог — учился, мечтал об университете, читал… Но вот, чего скрывать, моя жизнь может оборваться с любую минуту, в эти самые двадцать лет… Ну, и для чего же она была, эта моя жизнь? Неужели нет смысла в моем появлении на свет, в прожитых годах и в моей смерти, если она произойдет? Не может же этого быть! Он должен быть, этот смысл! Но в чем? А если все случайно? И наша вселенная, и наша земля, и люди на ней, и я? Что тогда? Значит, все, все бессмысленно? И когда подумаешь так, то становится как-то страшно на душе и очень пусто, словно вынули из нее что-то… Ладно, хватит об этом, а то вдруг Вам будут скучны мои рассуждения. Знаете, я перестал отдавать свои наркомовские сто граммов ребятам, а выпиваю их сам. После них как-то спадает напряжение, лучше мечтается и, что главное, ярче вспоминаетесь Вы… Кончаю писать, что-то зашевелились фрицы — стреляют из пулемета на левом фланге. Напишите, что Вы думаете о смысле жизни?…"
Мы и родились, наверное, для того, чтобы радоваться жизни. Радоваться, что светит солнце, что над нами голубое небо, что кругом хорошие, добрые люди… И наконец — есть любовь! Она-то дана для радости и счастья! Не знаю, что я ему отвечу? Что-нибудь накручу. Должно же у меня хватить на это мозгов. Еще в школе я прочла Вересаева "Живую жизнь" — это о Толстом и Достоевском. Так вот, мне всегда был чужд и далек Достоевский с его психопатами, и я люблю Наташу Ростову! А Наташа, по-моему, не очень-то задумывалась о смысле жизни, а просто жила… Наверно, так и надо. Или я не доросла еще до таких вопросов? Но ведь Ведерникову надо ответить, и что-то умное. Ладно, буду дежурить ночью, что-нибудь да соображу на досуге. Ничего особенно умного мне придумать не удалось. Ночь выдалась беспокойная, маетная, замучили черепники. Они самые тяжелые ранбольные и требуют особого внимания. Ходила то в одну палату, то в другую. Носила утки, поила водой, давала снотворное, поправляла одеяла и так далее… Но письмо все же дописала, и в свои довольно-таки беспомощные рассуждения ввернула словечко "имманентный", чтоб сразить своей эрудицией Ведерникова наповал. Я вообще обожала иностранные слова и запоминала их с ходу и навсегда, так же как и необычные и труднопроизносимые имена-отчества и фамилии, вроде, например, Саломеи Абрацумовны… Закончив письмо, я еще раз перечитала ведерниковское, и у меня сладко защемило в сердце, когда я дошла до последних строчек — он заканчивал свои письма теперь так: "А теперь я мысленно говорю Вам те купринские слова из "Гранатового браслета", которые не решаюсь произнести вслух…" Господи, неужели у меня настоящая любовь?! Как хорошо! На другой день после ночного дежурства я, как пришла, сразу же залегла спать, но через несколько часов меня разбудили — пришла зачем-то одна девочка, с которой я училась в школе. Была она худенькая, бледненькая, плохо одетая, но, когда я спросила ее, как она живет, она начала безбожно хвастать: живет прекрасно, замужем за геологом, который сейчас в экспедиции, а сама она работает в торговле и всем обеспечена. Потом она между прочим намекнула, что может достать мне суфле. Суфле и какавелла — это появилось только в войну. До нее мы и слыхом не слыхали о таких продуктах. Суфле — это какое-то сладкое молоко, вроде растаявшего мороженого, а какавелла — шелуха с бобов какао. Если ее хорошенько покипятить, то вода становится темной и пахнет настоящим какао. В общем, вкусно, ну а суфле вообще мечта! Я, конечно, обрадовалась, выдала ей наш единственный чайник и еще банку, дала пятьдесят рублей и уже предвкушала, как вечером я буду наслаждаться этим самым суфле. Но наслаждаться мне не пришлось ни в тот вечер, ни в последующие — девица исчезла, а я не знала, где она живет. Плакали мои полсотни (а это четвертая часть моей зарплаты!), а главное, пропал чайник и банка, про которые все время спрашивала мать, куда они задевались. Конечно, я страшная дурочка: не поняла по ее потрепанному и голодному виду, что ни в какой торговле она, бедняжка, не работает. Ладно — переживем и это! Только моя муттер не отвяжется и будет пилить меня насчет исчезнувшего чайника. Она страшно не любит, когда пропадают вещи. Правда, мама стала сейчас немного другая, чем до войны. Наркомат, где она работала в библиотеке, еще не вернулся из эвакуации, и она у меня пока без работы, получает только иждивенческую карточку. Это, видно, ее очень уничижает, и она потеряла свою прежнюю властность, непоколебимость суждений и не очень-то давит на меня. Мой незаконный отчим — дядя Кока, как я его называю, — занимает большой пост и некую толику продуктов отрывает из своего пайка для нас. Мой же родной папочка сейчас где-то на Урале, но после того, как мне стукнуло восемнадцать и ему не стало обязательным платись алименты, он еще ни разу не поинтересовался, что со мной, жива я или нет. А могла быть и не жива. Потому что после окончания курсов медсестер рвалась на фронт и могла бы попасть в Ленинград и только случаем не попала. В общем, обстановочка дома у меня не очень симпатичная. Дядя Кока намного старше матери (не знаю, чего она в нем нашла). Он очень важен, полон чувства собственного достоинства, рассуждает обо всем с невероятным апломбом, но, по-моему, не прочел ни одной книжки до конца, ограничиваясь предисловием или послесловием, после чего, имея некоторое представление о содержании книги, он мог с умным видом говорить о любом авторе. В общем, в госпитале мне лучше, чем дома. Если дядя Кока не лежал на диване, укрывшись газетой и похрапывая (господи, и это любовь!), когда я возвращалась домой, то начинал читать мне нравоучения и пытался воспитывать. А я этого терпеть не могу! Тут я готова сбежать куда угодно, хоть к чертям на кулички. И сбегала к какой-нибудь подруге, возвращаясь домой только после отправления дяди Коки к своей семье. Вообще отношения моей матери с дядей Кокой казались мне неестественными и шокировали меня, но мать они, видимо, устраивали… Сегодня в госпитале у нас очень грустный день — мы провожаем "стариков". Так называем мы тех ранбольных, которым больше тридцати, которые уже успели обзавестись семьями и имеют детей. Они-то и звали нас всех "доченьками". Читать дальше ... *** ***
*** *** Привет с фронта. Рассказ. Кондратьев Вячеслав Леонидович. 01 *** Привет с фронта. Рассказ. Кондратьев Вячеслав Леонидович. 02 *** Привет с фронта. Рассказ. Кондратьев Вячеслав Леонидович. 03 ***
*** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** Парадоксы фронтовой ностальгии. Кондратьев Вячеслав Леонидович. *** *** День победы в Черновe. Повесть. Вячеслав Кондратьев. 01 *** Искупить кровью. Кондратьев Вячеслав Леонидович. 01 *** Поездка в Демяхи. Повесть. Вячеслав Кондратьев. Книга "Сашка". *** Вячеслав Кондратьев. Встречи на Сретенке. Повесть. ... 01 *** Отпуск по ранению. Повесть. Книга "Сороковые". Вячеслав Кондратьев, Страницы книги. *** Селижаровский тракт. 001. Повесть. Кондратьев Вячеслав *** Женька. Рассказ. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 006 *** Дорога в Бородухино. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 002 *** На станции Свободный. Рассказ. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 001 *** Вячеслав Леонидович Кондратьев. ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ. Повесть. 001 *** Страницы книги. Сашка. Повесть. Вячеслав Кондратьев. 001 *** Вячеслав Кондратьев. ... Стихи... *** Сашка. 001. Повесть.Вячеслав Кондратьев *** Правда Вячеслава Кондратьева *** Кондратьев Вячеслав - "Отпуск по ранению" Театр на Малой Бронной *** Ещё раз... Воспоминания театральные. 002. *** *** Поэзии слова *** Поэты и их творчество..... *** ДЕНЬ ПОБЕДЫ *** *** *** ПОДЕЛИТЬСЯ
*** *** *** *** Фотоистория в папках - ЖИВОПИСЬ ***  ... А так же... »
Новости - цветы, друзья, всякое текущее
*** *** *** *** | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |