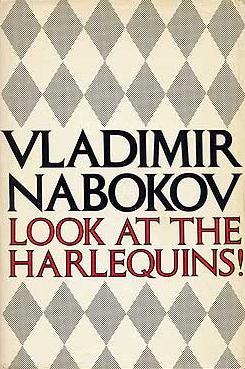23:43 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 006 | ||||||||||||||||||
|
===
Отпечатанные переводы “The Red Topper” (sic[74 - Так (лат.).]) и “Camera Lucida”[75 - ”Камера-люцида” (англ.).] я получил почти одновременно, осенью 1937 года. Они оказались даже гаже, чем я ожидал. Мисс Хаворт, англичанка, провела три счастливых года в Москве, где отец ее был послом; мистер Кулич, который подписывал свои письма именем “Бен”, был пожилым нью-йоркцем русских кровей. Оба совершали одинаковые ошибки, неверно выбирая слова в одинаковых словарях и с одинаковой беззаботностью никогда не утруждаясь проверкой предательского омонима знакомого с виду слова. Оба оставались слепы к контекстуальным тонкостям цвета и глухи к оттенкам шумов. Классификация натуральных объектов редко снисходила у них от класса к семейству и еще реже к роду в строгом значении этого слова. Оба мешали разновидности с видами; скок, подскок и заскок носили в их разумении полинявшую форму однополчан-синонимов, – ни одна страница не обошлась без прорухи. Особенно потрясла и зачаровала меня, на гнетущий, дьявольский манер, их уверенность в том, что порядочный автор способен сочинить тот или иной описательный кусок, низведенный их невежеством и неряшливостью до криков и кряканья кретина. В привычных им способах выражения Бен Кулич и мисс Хаворт сходились настолько, что теперь я подумываю, – а не были ль они тайно женаты, не списывались ли всякий раз что приходилось одолевать особенно каверзный абзац; или, быть может, они встречались наполдороге, устраивая лексические пикники на муравчатом склоне какого-нибудь кратера на Азорах. Несколько месяцев отняли у меня просмотр этого безобразия и надиктовка поправок Аннетт. Английский свой она вынесла из американского интерната в Константинополе, где провела четыре года (1920–1924) на первой стадии западной миграции семьи Благово. Я с изумлением наблюдал, как быстро растет и совершенствуется ее словарь благодаря выполнению новых для нее обязанностей, и забавлялся ее невинной гордыней, порожденной способностью правильно передать мою хулу и сарказмы в письмах к “Аллану-энд-Овертону”, Лондон, и к Джеймсу Лоджу, Нью-Йорк. В сущности, doigté[76 - Постановка пальцев, сноровка (фр.).] в английском (и во французском) был у нее лучше, чем при печатаньи русских текстов. Легкие спотычки, разумеется, неизбежны в любом языке. Как-то раз, справляясь во втором экземпляре пространной правки, уже отосланной мной терпеливому Аллану, я обнаружил сделанную ею пустяковую ошибку (“here” вместо “hero”[77 - Здесь ... герой (англ.).]или, может быть, “that” вместо “hat”[78 - Тот, та ... шляпа (англ.). ], теперь уж и не упомню, – но по-моему, там была буква “h”), попросту опечатку, которая, впрочем придавала всему предложению угнетающе плоский и, увы, не невразумительный смысл (правдоподобие подвело немало старательных считчиков). Можно было тотчас телеграммой исправить ошибку, но задерганного, переутомленного автора такие происшествия выводят из себя, – и я высказал свое неудовольствие с неоправданным пылом. Аннетт начала искать в ящике (не в том) бланк телеграммы и, не поднимая головы, произнесла: — Она помогла бы тебе гораздо лучше, чем я, но, правда же, я страшно стараюсь. Мы никогда не упоминали Ирис, – был такой подразумеваемый пункт в кодексе нашего брака, – но я сразу понял, что Аннетт говорит о ней, а не о никчемной английской девице, за несколько недель до того присланной мне из агентства и отправленной назад в упаковке и с ленточкой. Я ощутил, как по какой-то оккультной причине (все то же переутомление) слезы навернулись мне на глаза, и еще не успев подняться и выйти из комнаты, уже бесстыдно рыдал и лупил кулаком по толстой безымянной книге. Она, тоже заплакав, скользнула в мои объятия, и мы в этот вечер пошли смотреть новый фильм Рене Клера, а после поужинали в “Гранд-Велюр”. В те месяцы, пока я правил и частью переписывал “The Red Topper” и другую книгу, я начал испытывать корчи странного преображения. Не то чтобы я одним европейским утром проснулся в образе громадного скарабея с числом ног, превосходящим возможности какого угодно жука, но некие мучительные разрывы потаенных тканей во мне происходили. Русская пишущая машинка захлопнулась, как гроб. Окончание “Подарка” отправилось в “Patria”. Мы с Аннетт собирались весной отправиться в Англию (да так и не собрались), а летом 1939 года – в Америку (где ей предстояло погибнуть четырнадцать лет спустя). К середине 1938 года я почувствовал, что могу разогнуть спину и тихо порадоваться как приватным похвалам, о которых мне сообщали в письмах Эндовертон и Лодж, так и публичным попрекам за аристократическую замысловатость, каковые обрушили бойкие критикунчики из воскресных газет на слог тех мест в английских версиях моих двух романов, автором которых был один только я. И все же совсем иным делом была “работа без сетки” (по выражению русских акробатов), – попытка сочинять роман прямо по-английски, потому что так я лишался русской страховочной сети, натянутой понизу, между мной и освещенным кружком арены.
Сама идея явилась, возможно, косвенным результатом оскорбления, нанесенного моему прилежному художеству парочкой портачей. Положим, что недавно скончался английский романист, блестящий, неподражаемый мастер. Хамлет Годман, недалекий, злобноватый, окончивший в Оксфорде датчанин с пошлым складом ума, пытается наспех состряпать его жизнеописание, находя в этой нелепой задаче ковалевскую “отдушину” для литературных крушений, вполне заслуженных его пристойной посредственностью. На беду опрометчивого биографа, за редактирование его пачкотни берется гневливый брат покойного романиста. По мере того, как раскручиваются первые рептильные кольца начальной главы (с инсинуациями насчет “мастурбационного комплекса вины” и кастрирования оловянных солдатиков), нарождается нечто, ставшее для меня волшебством и очарованием книги: братнины сноски, полдюжины строк на страницу, потом поболе, потом гораздо поболе, – они подвергают сомнению, потом оспаривают, потом с осмеянием уничтожают подложные анекдоты и плоские вымыслы самозванного биографа. Умножение этих сносок внизу страницы ведет к зловещему разрастанию (несомненно тревожащему клубных и оправляющихся от болезни читателей) испещряющих текст астрономических символов. К концу университетской поры героя высота критического аппарата достигает трети каждой страницы. Предупрежденья издателей о национальном бедствии – наводненные поля и тому подобное – сопровождаются дальнейшим подъемом паводка. К 200-й странице сноски теснятся на трех четвертях текста, меняется и сам их набор – по крайности психологически (я не люблю типографских фокусов в книгах) – от петита до корпуса. В последних главах комментарий не только замещает весь текст, но под конец набухает до жирного шрифта. “Мы становимся свидетелями замечательного явления – постепенной подмены лживой biographie romancée[79 - Романизированная биография (фр.).] подлинной историей жизни великого человека”. В виде довеска я приложил трехстраничный отчет об ученой карьере великого аннотатора: “Ныне он читает о современной литературе, включая и сочинения брата, в Парагонском университете, штат Орегон”. Вот описание романа, созданного почти сорок пять лет назад и широкой публикой, вероятно, забытого. Я никогда не перечитывал его, потому что вообще перечитываю (je relis, I reread, – дразню прелестную возлюбленную!) только гранки тех моих книг, что выходят в бумажных обложках, а по причинам, которые, я уверен, Дж. Лодж находит вполне основательными, эта книга все еще пребывает в стадии твердого панциря. Но в розовой ретроспекции я ощущаю ее как событие радостное, в моем сознании она совершенно отделилась от терзаний и страхов, сопровождавших написание этой небольшой и отчасти легковесной сатиры. На деле, ее сочинение, при всей радости (быть может, также пагубной), которую доставляли мне после ночи восторгов, злоключений и торжеств радужные пузырьки в моих алембиках (смотрите на арлекинов, смотрите все – Ирис, Аннетт, Бел, Луиза и ты, ты, последняя и бессмертная!), едва не довело меня до паралитического слабоумия, которого я страшился с юных лет. Полагаю, в мире атлетических игр никогда не бывало чемпиона мира по лыжам и лаун-теннису, в двух же литературах, несхожих, как снег и трава, я первый овладел мастерством подобного рода. Не знаю (атлет из меня никудышный, а спортивные страницы газет нагоняют мне почти такую же скуку, как кухонные их разделы), какие потребны усилия для того, чтобы в один день набрать на сервисе тридцать шесть пунктов подряд на уровне моря, а в следующий – взмыть с трамплина и улететь по яркому горному воздуху на 136 метров. Разумеется, колоссальные и, возможно, немыслимые. Но я все-таки смог пройти сквозь муки и корчи литературной метаморфозы. Эволюция моего английского, подобно эволюции птиц, имела свои паденья и взлеты. Любимая нянюшка-кокни ходила за мной с 1900-го (мне был тогда год) по 1903-ый. За нею последовала вереница из трех английских гувернанток (1903–1906, 1907–1909 и с ноября 1909-го по Рождество того же года), которые видятся мне, через плечо времени, как представляющие, мифологически, Дидактическую Прозу, Драматическую Поэзию и Эротическую Идиллию. Моя двоюродная бабка, замечательная личность с незаурядно свободными взглядами, все же спасовала перед семейными мнениями и выгнала Черри Нипль, мою последнюю пастыршу. После французско-русской педагогической интерлюдии двое английских наставников более или менее наследовали один другому между 1912-ым и 1916-ым, забавно пересекшись в 1914-ом, когда оба оспаривали услуги молодой деревенской красотки, бывшей, в первую голову, моею милашкой. Около 1910-го “B. O. P.”[80 - ”Boys Own Paper” – “Газета для мальчиков” (англ.).] сменил английские сказки, а за ним вплотную пошли все тома Таухница, какие скопились в семейных библиотеках. Всю мою юность я читал – попарно и с неизменным глубоким трепетом – “Онегина” и “Отелло”, Тютчева и Теннисона, Браунинга и Блока. В три кембриджских года (1920–1922) и потом, до 23 апреля 1930-го, моим обыденным языком оставался английский, меж тем как начало разрастаться, чтобы вскоре поглотить домашних богов, вещество моих собственных русских творений. Покамест – куда ни шло. Однако, сама эта фраза – лишь ходовое клише, вопрос же, вставший передо мною в Париже в конце тридцатых годов, в том-то и состоял, смогу ли я справиться с формулами, смогу ли содрать с себя готовое платье и уплыть от моего восхитительного самодельного русского не в мертвые, свинцовые английские воды с их манекенами в матросках, но в такой английский язык, за который лишь я буду в ответе, – со всей его новенькой зыбью и переливчатым светом? Осмелюсь предположить, что рядовой читатель проскочит мимо описания моих литературных печалей; и все же хочу – не для него, для себя – безжалостно задержаться на обстоятельствах, сложившихся достаточно скверно еще до того, как я покинул Европу, и едва не прикончивших меня при переправе. Русский и английский годами пребывали в моем сознании в виде двух отдельных миров. (Это только теперь установился своего рода межпространственный контакт: “A knowledge of Russian, – пишет Джордж Оуквуд в своем проникновенном эссе, посвященном “Ардису”, 1970, – will help you to relish much of the wordplay in the most English of author's English novels; consider for instance this: “The champ and the chimp came all the way from Omsk to Neochomsk”. What a delightful link between a real round place and “ni-o-chyom”, the About Nothing land of modern philosophic linguistic!”[81 - Знание русского языка поможет вам насладиться словесной игрой самого английского из английских романов автора; возьмем, например вот это: “Лязг и лузг стояли от Омска до Неочемска”. Как восхитительна связь реального города с “ни-о-чемной” пустошью современной философской лингвистики!” (англ.).]. Я остро сознавал синтаксическую пропасть, разделяющую структуры их предложений. Я боялся (беспричинно, как выяснилось со временем), что моя привязанность к русской грамматике помешает вероотступническому служению. Возьмите хоть времена: насколько отличен в английском их менуэт, затейливый и строгий, от вольной, текучей взаимной игры настоящего с прошлым в русском его сопернике (игры, которую Ян Буниан столь остроумно уподобляет в последнем воскресном выпуске NYT[82 - ”Нью-Йорк Таймс” (англ.).] “танцу с шалью, исполняемому пышной и грациозной женщиной в кругу веселых пьянчуг”). Смущало меня и фантастическое обилие естественных на вид существительных, в специальном смысле прилагаемых англичанами и американцами к разного рода конкретным вещам. Как в точности называется чашечка, в которую помещают алмаз, предназначенный для огранки? (У нас она зовется “dop” – оболочка куколки, ответил старый бостонский ювелир, продавший мне кольцо для третьей моей нареченной.) А разве не существует особенного словца для обозначения поросенка? (“Думаю попробовать “snork”[83 - Хрюканье (англ.).], – сказал профессор Нотебоке, лучший из переводчиков бессмертной гоголевской “Шинели”.) Мне требуется точное название слома в мальчишеском голосе при половом созревании, сказал я любезному оперному басу, сидевшему в соседнем палубном кресле во время первого из моих путешествий через Атлантику. “I think, – сказал он, – it's called[84 - По-моему, его зовут... (англ.).] “ponticello”, a small bridge, un petit pont, мостик... А, так вы тоже русский?” Переход по моему личному мостику завершился через неделю после высадки, в чарующей нью-йоркской квартире (навязанной нам с Аннетт моей щедрой родственницей и обращенной лицом на закат, пылавший над Центральным парком). Невралгия в правом предплечьи казалась сереньким затемнением в сравненьи со слитной черной мигренью, не пробиваемой никакими пилюлями. Аннетт позвонила Джеймсу Лоджу, и он по сердечной доброте, неверно направленной, прислал ко мне старого доктора из русских, дабы тот меня осмотрел. Этот несчастный едва не свел меня с ума окончательно, ибо он не только упрямо норовил обсудить мои симптомы на жалкой разновидности языка, который я пытался стряхнуть, но еще и переводил на этот язык разные никчемные термины из обихода Венского Шарлатана и его апостолов (“симболизирование, мортидник”). И все-таки должен признаться: его визит при всяком вспоминаньи о нем поражает меня редкой художественностью коды. *** *** *** *** Источник : https://librebook.me/smotri_na_arlekinov *** *** *** --- СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 001 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 002 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 003 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 004 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 005 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 006 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 007 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 008 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 009 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 010 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 011 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 012 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 013 *** *** *** *** Смотри на арлекинов!Материал из Википедии — свободной энциклопедии
«Смотри на арлекинов!» (англ. Look at the Harlequins!) — последний завершённый роман Владимира Набокова. Написан в 1973—1974 годах на английском языке. Впервые издан в 1974 году в Нью-Йорке. На русском языке роман впервые опубликован в 1999 году в переводе Сергея Ильина в пятом томе Собрания сочинений американского периода. Андрей Бабиков подготовил новый перевод романа под названием «Взгляни на арлекинов!», с подробными примечаниями, который вышел в издательстве «Азбука» в 2013 году. СюжетРоман представляет собой мемуары рассказчика Вадима Вадимовича Н., знаменитого русско-американского писателя (как и сам Набоков), охватывающие пятьдесят лет его жизни в нескольких странах: дореволюционной России, Франции, США и Италии. В центре повествования Вадима Вадимовича — описание трёх его браков (с англичанкой Айрис Блэк, русской эмигранткой Аннеттой Благово и американкой Луизой Адамсон), адюльтера с Долли фон Борг (явная отсылка к Лолите), его двусмысленных отношений с дочерью Изабеллой и история его последней любви к ровеснице его дочери, американке русского происхождения, имя которой остаётся неизвестным. Эту свою последнюю возлюбленную повествователь называет «Ты». Её жизнь, внешность и подробности их романа описываются предельно лаконично, оберегаемые героем от сплетен и домыслов его биографов. В самом конце романа она принимает предложение Вадима Вадимовича стать его четвёртой женой. Герой романа страдает особой формой умственного расстройства, не позволяющей ему совершить умозрительный поворот кругом, когда он воображает себе какой-либо отрезок пройденного пути. Видя в этом безобидном пороке своего сознания симптом возможного помешательства, герой считает своим долгом предупредить каждую из трёх своих жён и свою последнюю невесту, прежде чем сделать им предложение, об этой возможности, в мельчайших подробностях описывая на умозрительном примере эту свою странность. Ни одна из трёх его жён не находит в этом его расстройстве ничего опасного и не может помочь ему, кроме его последней возлюбленной, которая объясняет Вадиму Вадимовичу, что он путает пространство и время, пытаясь мысленно вернуться назад во времени, а не пространстве. Эта тема сближает последний роман Набокова с его самым крупным английским романом «Ада» (1969). В романе семь частей, в пятой части герой описывает своё путешествие с поддельным паспортом в СССР, куда уехала на жительство его дочь и где он надеялся её разыскать. Подробности этого путешествия Набоков, так и не посетивший свою бывшую родину, почерпнул из рассказов своей сестры Елены, которая не раз приезжала в Ленинград в 60-х годах. Несмотря на множество параллелей между биографией Набокова и героя «Арлекинов», этот роман не следует понимать как автобиографию Набокова, а скорее как пародию на автобиографию. Сам главный герой замечает:
Примечания
Источник : Википедия *** *** *** *** *** *** *** ПОДЕЛИТЬСЯ ---
--- --- --- --- ---
...и вновь часы*** Читать, смотреть ... - Ссылки на фото в папках Яндекс-Диска - 01 *** ***
--- *** *** --- --- --- *** *** *** *** *** --- --- --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- *** *** *** *** --- --- АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Всего комментариев: 0 | |