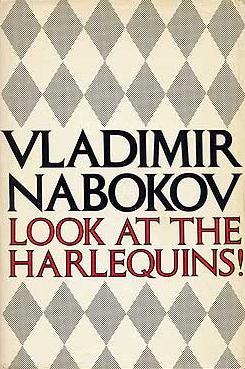23:40 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 005 | ||||||||||||||||||
|
5 Мой отец был игрок и распутник. В свете его прозвали Демоном. Портрет, писанный Врубелем, передает его бледные, как у вампира, ланиты, алмазные очи, черные волосы. То, что присохло к палитре, использовал я, Вадим, сын Вадима, прописывая отца обуянных страстью детей в “Ардисе”, лучшем из моих английских романов (1970). Отпрыск княжьего рода, верно служившего дюжине царей, отец застрял в идиллических предместьях истории. Его политические взгляды были поверхностны и реакционны. Он вел ослепительную и сложную чувственную жизнь, что до культуры, сведения его были отрывочны и заурядны. Он родился в 1865-ом, женился в 1896-ом и погиб 22 октября 1898 года на револьверной дуэли с молодым французом, повздорив с ним за карточным столом в Deauville – это какой-то курорт в серой Нормандии. Ничего особенно пугающего в ошибке доброжелательного, нелепого, в сущности, и бестолкового старого дурня, принявшего меня за какого-то другого писателя, могло и не быть. Я сам прославился тем, что во время лекции сказал однажды “Шелли”, желая сказать “Шиллер”. Но то, что обмолвка этого олуха или оплошность его памяти смогла внезапно связать меня с миром иным сразу за тем, как я с сугубым испугом представил, что, может быть, я непрестанно подделываюсь под кого-то, ведущего настоящую жизнь за созвездиями моих слез и звездочек над стихами, – вот это было невыносимо, как посмело это случиться со мной! Едва затихли последние звуки прощаний и извинений бедного Оксмана, как я содрал удушавшую меня полосатую шерстяную змею и шифром записал каждую подробность моего свидания с ним. Затем провел пониже жирную черту и вывел караван вопросительных знаков. Махнуть ли рукой на совпадение и на все, что из него вытекает? Или, напротив, переиначить всю мою жизнь? Должен ли я забросить искусство и выбрать иной путь притязаний – серьезно заняться шахматами или, скажем, стать лепидоптеристом, или дюжину лет провести неприметным ученым, приготовляющим русский перевод “Потерянного рая”, который заставит литературных кляч шарахаться, а ослов лягаться? Но только писательство, только творчество, бесконечное воссоздание моего текучего я, способно удерживать меня в более или менее здравом уме. И все, что я сделал в итоге, – это отбросил псевдоним, приевшийся и отчасти сбивавший с толку, – “В. Ирисин” (сама моя Ирис говаривала, что он звучит так, будто я – вилла), и вернулся к своему родовому имени. Этим именем я и решил подписать ожидаемую эмигрантским журналом “Patria” первую часть нового моего романа “Подарок отчизне”. Я как раз закончил переписывать рептильно-зелеными чернилами (плацебо, имевшее целью оживить выполнение этой задачи) второй или третий беловой вариант начальной главы, когда пришла договариваться о времени и условиях Анна Благово. Она появилась 2 мая 1934 года, на полчаса опоздав, и как человек, лишенный ощущения длительности, свалила опоздание на свои неповинные часики, – устройство, предназначенное для замера движения, а не времени. Она была грациозной блондинкой лет двадцати шести, с очень приятными, хоть и не вполне миловидными чертами. В сером, сшитом по мерке жакете поверх белой шелковой блузы, глядевшем нарядно и празднично благодаря подобию банта между его отворотов, к одному из которых она приколола букетик фиалок. Было что-то мило напористое в ее изящного покроя короткой юбке, вообще она казалась более шикарной и soignée[61 - Опрятнее, холеней (фр.).], чем средняя русская барышня. Я объяснил ей (поразившим ее, – как она рассказала мне позже, – неприятно насмешливым тоном циника, примеряющегося к новой жертве), что предполагаю ежедневно после полудня надиктовывать ей “прямо в машинку” густо исчерканные черновики, или иначе ломти и начинку чистовой рукописи, куски, которые я, вероятно, буду переделывать в “часы одинокие ночи”, выражаясь словами А. К. Толстого, и которые буду просить ее перестучать на следующий день. Она не сняла тесноватой шляпки, но слущила перчатки и, напучив яркие, красные, свеженакрашенные губы, надела большие черепаховые очки, чем-то довершившие ее миловидность: желательно взглянуть на мою машинку (ее ледяная сдержанность обратила бы и святого в похотливого гаера), приходится спешить, у нее еще одна встреча, она забежала только затем, чтобы проверить, подходит ли ей машинка. Сняв зеленое кабошоновое кольцо (которое мне предстояло найти после ее ухода), она уж было начала отстукивать торопливый образчик, но со второго взгляда уверилась, что мой инструмент той же выделки, что и ее. Наш первый сеанс оказался совершенно ужасен. Я выучил свою роль с тщанием нервного актера, но где мне было управиться с партнером, который помнит реплики через одну да и в тех сбивается. Она попросила меня диктовать помедленнее. Она мешала мне дурацкими замечаниями: “Так по-русски не говорят” или “Никто не знает этого слова (“взводень”), – зачем не сказать просто “большая волна”, если вы ее имели в виду?” Когда гнев сбивал меня с ритма, и приходилось тратить время на то, чтобы выпутать конец предложения из ставшего вдруг незнакомым лабиринта вставок и вымарок, она откидывалась на спинку стула и ожидала, с видом провокатора-мученика, и душила зевок или разглядывала ногти. После трех часов работы я просмотрел итог ее щеголеватой и дерзкой молотьбы. Итог изобиловал орфографическими ошибками, опечатками и уродливыми вытирками. Я очень кротко заметил, что она, видать, не привыкла к литературному (то есть нешаблонному) материалу. Она отвечала, что я ошибаюсь, литературу она любит. Да вот, сказала она, за одни только пять последних месяцев она прочла Голсворти (по-русски), Достоевского (по-французски), громадный исторический роман генерала Пудова-Узуровского “Царь Бронштейн” (в оригинале) и “L'Atlantide”[62 - ”Атлантида” (фр.).] (о которой я и не слыхивал, но которую мой словарь приписывает Пьеру Бенуа, romancier français né à Albi[63 - Французский романист родом из Альби (фр.).], воззиявшему в Тарне). А стихи Морозова ей знакомы? Нет, ее вообще никакие стихи не интересуют, стихи не отвечают темпу модерной жизни. Я пожурил ее за то, что она не прочла ни одного моего рассказа либо романа, тут она приобрела вид досадливый и, возможно, отчасти испуганный (боялась, гусынюшка, что я ее прогоню) и, наконец, одарила меня до странного эротическим удовлетворением, пообещав, что теперь просмотрит все мои книги, а уж “Подарок” определенно выучит наизусть. Читатель должен уже заметить, что о моих русских произведениях двадцатых-тридцатых годов я говорю очень общо, полагая, что он с ними знаком или хотя бы может легко получить их английские версии. Здесь, однако, придется сказать несколько слов о “Подарке отчизне” (по-английски названном “The Dare” – т.е. “дерзость”, “вызов”). Когда я в 1934-ом году принялся диктовать Аннетте его начало, я знал, что это будет мой самый длинный роман. Однако я не предвидел, что он почти сравнится в длине с паскудным и глупым “историческим” сочинением генерала Пудова о том, каким манером Сионские Мудрецы присвоили власть на Святой Руси. Почти целых четыре года ушло у меня на то, чтобы написать эти четыреста страниц, многие из которых Аннетт перепечатала по крайности дважды. К маю 1939-го года, когда мы, еще бездетные, перебрались в Америку, большая часть его была напечатана выпусками в эмигрантских журналах; но в виде книги русский оригинал появился только в 1950-ом (Turgenev Publishing House, New York[64 - Издательство “Тургенев”, Нью-Йорк (англ.).]), спустя десять лет за ним последовал английский перевод, заглавие которого изящно отсылает нас не только к известному устройству, посредством коего морочат глупую крачку, но также и к дерзкому нраву Виктора, героя и частично рассказчика романа. Роман начинается ностальгическим описанием детства в России (более счастливого, хоть и не менее изобильного, чем мое). Затем наступает английская юность (которая мало чем рознится от моих кембриджских лет), а после – жизнь в эмигрантском Париже, писание первого романа (“Мемуары любителя попугаев”) и завязывание забавных узлов разного рода литературных интриг. В середину романа целиком вставлена книга, написанная Виктором “из дерзости”, – это краткая биография и критический разбор сочинений Федора Достоевского, чьи политические взгляды автору отвратительны, а романы порицаемы им, как нелепые, с их чернобородыми убивцами – попросту негативами традиционного облика Иисуса Христа, – с плаксивыми потаскушками, взятыми напрокат из слезоточивых романов предыдущего века. В следующей главе описаны гнев и оторопь эмигрантских рецензентов, жрецов достоевского вероисповедания; а на последних страницах мой молодой герой принимает вызов ветреной возлюбленной и напоследок совершает даровой подвиг, пройдя полным опасностей лесом на советскую территорию и столь же беспечно воротившись назад. Я привожу эти выжимки в виде примера того, что определенно усваивал и самый убогий из читателей моего “Подарка”, если только электролиз не разрушал в нем некие важные клетки сразу за тем, как он захлопывал книгу. Так вот, непрочное очарованье Аннетт частью крылось в ее забывчивости, все и вся погружавшей в вечерние сумерки, словно пастельная мгла, что скрадывает горы, облака и даже себя самое, меж тем как впадает в забытье летний день. Я уверен, что множество раз видел ее с номером “Patria” на истомленных коленях, провожавшей печатные строки маятниковым качанием глаз, наводящим на мысль о чтении, и действительно добиравшейся до “Будет продолжено” в конце очередного куска “Подарка”. Я знаю также, что она отпечатала в нем каждое слово и большую часть запятых. Но факт остается фактом, – в ней ничего не застряло, – быть может из-за того, что она раз и навсегда решила, будто моя проза не только “трудна”, но и герметична (“пренеприятно герметична”, если повторить комплимент, сделанный мне Базилевским в минуту, – наставшую в должное время, – когда он смекнул, что в третьей главе мой великолепно счастливый Виктор высмеял его склад ума и манеру). Должен сказать, что я ей охотно прощал ее отношенье к моей работе. Читая перед публикой, я любовался ее публике предназначенной улыбкой, “архаической” улыбкой греческой статуи. Когда ее жутковатые родители пожелали увидеть мои книги (так подозрительный доктор желает увидеть образчик семени), она ошибкой дала им для чтенья чужой роман – из-за дурацкого сходства заглавий. Единственное настоящее потрясение я испытал, подслушав, как она объясняет какой-то дуре-подруге, что мой “Подарок” включает биографии “Чернолюбова и Доброшевского”! Она пыталась даже поспорить со мной, когда я в опровержение заявил, что полоумный разве мог выбрать себе в предмет двух журналистов третьего сорта, – да вдобавок вывернуть их имена!
За долгую мою жизнь я заметил или мне кажется, что заметил, что когда я почти уж влюблен или даже еще не осознаю влюбленности, меня посещает сон, знакомящий с тайной возлюбленной на сумрачной заре, в обстоятельствах довольно детских, отмеченных на редкость болезненным возбуждением, которое мне приходилось испытывать и подростком, и юношей, и безумцем, и старым умирающим сластолюбцем. Ощущение повторяемости (“кажется, что заметил”) является, вполне вероятно, присущим сновидению вообще: тот сон, например, мог привидеться мне лишь единожды или дважды (“за долгую мою жизнь”) и знакомость его – лишь капельница, прилагаемая к каплям. Напротив, место, которое я вижу во сне, – это не какая-то знакомая комната, но горстка воспоминаний о тех, в которых мы просыпались детьми после рождественского бала или летних именин, в огромном доме, принадлежавшем чужим людям или дальней родне. Впечатление такое, что будто бы две кровати, кроватки в данном случае, внесли в комнату и поставили к противоположным ее стенам, при том, что это, собственно говоря, и не спальня вовсе, а просто комната, в которой мебели, кроме этих раздельных кроватей, никакой нет: в снах, как в старинных новеллах, домовладельцы скупы либо нерадивы. В одной из кроватей я вижу себя, только что пробудившегося от какого-то вторичного сна, имеющего лишь формульное значение; а в кровати дальней, у правой стены (ориентация также предоставлялась) в этой частной версии сна (летом 1934-го года по дневному исчислению) лежит девушка – более юная, худая и бойкая Аннетт и, резвясь, негромко беседует сама с собою, на самом же деле, как я понимаю с упоительным учащением нижних пульсов, притворяется, что беседует – ради меня, привлекая мое внимание. Следующая моя мысль, – от которой толчки учащаются, – о том, как странно, что мальчик и девочка оказались спящими в одной временной спальне: тут, конечно, ошибка или, может быть, дом переполнен, а расстояние между кроватями, голый участок пола, сочтено достаточно дальним для соблюденья приличий, тем паче в рассужденьи детей (мой средний возраст всю жизнь составлял тринадцать лет). Чаша наслаждения уже налилась до краев и прежде, чем ей расплескаться, я на цыпочках перемахиваю голым паркетом из моей постели в ее. Ее волосы заступают дорогу моим поцелуям, но скоро губы находят щеку и шею, и у нее рубашка на пуговицах, и она говорит, что в комнату вошла служанка, но слишком поздно, мне уже не сдержаться, и служанка, тоже очень красивая, смотрит на нас и хохочет. Сон, увиденный мной через месяц, что ли, после встречи с Аннетт, ее облик во сне, эта ранняя версия голоса, мягкие волосы, нежная кожа, стали моим наваждением и изумляющим счастьем – счастьем открытия, что я влюблен в маленькую госпожу Благово. Ко времени сновидения наши отношения еще оставались формальными – даже сверхформальными, – и потому я не мог передать ей мой сон с необходимыми живостью и связностью (присущими этим запискам); а сказать попросту “вы мне приснились” – значило ляпнуть пошлость. Я поступил гораздо честней и отважней. Прежде чем открыться ей в том, что она назвала (говоря о другой чете) “серьезными намерениями”, – и прежде даже чем самому разрешить загадку, почему я ее полюбил, – я решил рассказать ей о моем неизлечимом недуге. 7 Она была грациозна, томна, небесно-добродетельна, в некотором смысле, а во многих иных – прискорбно глупа. Я же был одинок, напуган и изнывал от похоти, – но изнывал не настолько, чтобы не предупредить ее посредством живого примера – наполовину парадигмы, наполовину предметного урока, – на что она себя обречет, согласившись пойти за меня. Милостивая государыня Анна Ивановна! Прежде, чем порадовать вас изустным обсуждением темы чрезвычайной важности, я прошу вас присоединиться ко мне в проведении опыта, который лучше всякой ученой статьи обнаружит для вас одну из типических граней смещенного кристалла моей души. Итак, приступим. Сейчас, с вашего позволения, ночь, и я лежу в постели (прилично одетый, конечно, и всякий мой орган вкушает приличный покой), лежу на спине, воображая заурядный миг в заурядном пространстве. Чтобы еще увеличить чистоту нашего опыта, положим, что место, воображаемое мной, вымышлено. Я воображаю себя выходящим из книжной лавки и замирающим на краю тротуара, прежде чем перейти через улицу к маленькому тротуарному кафе прямо насупротив. Машин не видно. Перехожу. Воображаю себя подходящим к кафе. Послеполуденное солнце занимает стул и половину стола, в остальном открытая часть кафе пуста и приманчива: ничего кроме яркости не оставил недавний дождь. Тут я запинаюсь, припомнив, что вышел из дому с зонтом. Я не хочу утомлять вас, глубокоуважаемая Анна Ивановна, и еще меньше хочу комкать этот третий или четвертый несчастный листок с корежащим звуком, который умеет издать одна лишь наказанная бумага: но сцена вышла недостаточно отвлеченной и схематичной, так что позвольте мне ее переснять. Я, ваш друг и работодатель, Вадим Вадимович, навзничь лежу в постели и в совершенной тьме (минуту назад я вставал, чтобы задернуть луну, заглянувшую в щель между складками двух абзацев). Я воображаю дневного Вадима Вадимовича переходящим улицу от книжной лавки к тротуарному кафе. Я закован в себя вертикального: гляжу не вниз, а вперед и потому лишь косвенно сознаю расплывчатый перед моей дородной фигуры, перемежающиеся носки туфель, прямоугольной формы пакет подмышкой. Я воображаю себя проделавшим двадцать шагов, потребных для достижения противной панели, застывающим с непечатным проклятьем и решающим вернуться в лавку за забытым зонтом. Но существует некий недуг, доселе не названный; существует, Анна (вы должны разрешить мне называть вас так, – я старше вас десятью годами и очень болен), какой-то страшный разлад в моем восприятии направления или вернее в моей способности властвовать над постижимым пространством, потому что в этой точке спряжения мне не по силам проделать в уме, во тьме моей постели, простой разворот (каковой не задумываясь выполняю в телесной реальности!), который позволил бы мне мгновенно создать в сознании вид уже пройденного асфальта, как лежащего передо мной, так чтобы витрина лавки оказалась перед глазами, а не где-то там сзади. Позвольте мне ненадолго задержаться на подразумеваемой процедуре, на моей неспособности сознательно следовать ей в уме – в моем неповоротливом и непослушном уме! Чтобы заставить себя вообразить процесс поворота, я вынужден раскрутить декорацию в обратную сторону: я должен попробовать, глубокоуважаемый друг и помощница, развернуть улицу по всей ее длине с тяжкими фасадами домов впереди и сзади меня, обратить ее направление, медленно подтянув ее на полоборота, – а это все равно, что пытаться поворотить огромный отросток ржавого неподатливого руля – и тем самым с осознанной постепенностью преобразовать себя из, скажем, обращенного на восток Вадима Вадимовича в него же, но ослепленного западным солнцем. Одна только мысль об этом погружает откинувшегося на кровати в такое замешательство, в такую дурноту, что он предпочитает совсем отказаться от разворота, стерев, так сказать, все, что он видит, с аспидной доски, и начав в воображении возвратный переход, как если б он был исходным, без какого-либо предварительного пересечения улицы, а значит и без промежуточного ужаса – ужаса борьбы с рулевым управлением пространства – и без боязни размозжить себе грудь в этой борьбе! Voilà. Звучит довольно мирно, не так ли, en fait de démence[65 - В сущности, слабоумие (фр.).], и то перестань я постоянно думать об этом, все скукожилось бы в пустяковый изъян – в недостающий мизинчик уродца, рожденного девятипалым. Однако вдумываясь, я поневоле начинаю подозревать, что это – упредительный симптом, предвестие умственного расстройства, способного, как известно, поражать со временем целый мозг. Но даже и это расстройство может оказаться не таким уж серьезным и грозным, как то внушают грозовые сигналы, и я лишь хочу, чтобы вы, Аннетт, разобрались в ситуации прежде, чем я сделаю вам предложение. Не пишите, не звоните, не говорите об этом письме, если и когда вы придете в пятницу вечером; но, пожалуйста, если придете, наденьте в знак благосклонности флорентийскую шляпку, похожую на букет полевых цветов. Я хочу, чтобы вы восславили ваше сходство с той девушкой, белокурой, убранной цветами с прямым носом и серьезными серыми глазами – пятой слева в Боттичеллиевой “Primavera”[66 - “Весна” (ит., картина Сандро Боттичелли).], в аллегории Весны, моя любовь, моя аллегория.
— Я идиотка, – сказала она. – Пока я искала тот симпатичный венчик, папа начал мне что-то читать про вашего предка, который повздорил с Петром Грозным. — С Иваном, – сказал я. — Имени я не уловила. Потом вижу – опаздываю, – ну и нацепила вот эту шапочку вместо той, вашей, которую вы заказали. Я помогал ей выбраться из жакета. От сказанных ею слов меня обуяла игривость, вольная, словно во сне. Я обнял ее. Мой рот отыскал жаркую впадинку между ключицей и горлом. Объятие было кратким, но совершенным, и я вскипел и всплеснулся, укромно и сладко, всего лишь прижавшись к ней, лелея в чаше одной ладони ее маленький крепкий задок, а другой ощущая лирные струны ребер. Она вся дрожала. Пылкая, но глупо невинная, она не сумела понять, отчего моя хватка вдруг ослабела с внезапностью сна или паруса, потерявшего ветер. Так значит, она прочитала только начало письма и конец? Ну, в общем да, поэтическую часть она пропустила. Иными словами, она и понятия не имеет, к чему я клонил? Она обязательно все перечтет, сказала она. Но все же она поняла, что я люблю ее? Конечно, сказала она, но как она может верить, что я люблю ее по-настоящему? Ведь я такой странный, такой, такой, – она не смогла это выразить, – да, СТРАННЫЙ во всем, она никогда таких не встречала. Кого же она встречала, полюбопытствовал я: трепанаторов? тромбонистов? астрономов? Ну, все больше военных, если уж мне так хочется знать, врангелевских офицеров, благородных, интересных людей, говоривших об опасностях, о службе, о биваках в степи. Ах, но помилуйте, я тоже могу рассказать о “праздности пустынь, ущельях и горах”. – Нет, сказала она, они же ничего не выдумывали. Они рассказывали про повешенных ими шпионов, рассуждали о международной политике, о новом фильме или о книге, раскрывающей смысл жизни. И ни одной сомнительной шутки, ни одного неприятного, рискованного сравнения... Не то что в моих книгах? Примеры, примеры! Не станет она приводить примеров. Она не хочет, чтобы я пришпилил ее и оставил извиваться на булавке, словно бескрылую муху. Или бабочку. Однажды чудесным утром мы гуляли в окрестностях Bellefontaine. Что-то замерцало и вспыхнуло. — Посмотри-ка на этого арлекина, – шепнул я, осторожно указывая локтем. На белой стене пригородного сада сидела, греясь на солнце, плоская симметрично раскрытая бабочка, помещенная живописцем чуть под углом к горизонту картины. Он написал ее улыбчивым красным с желтыми прогалами меж черных пятен; вдоль краев иззубренных крыльев рядком тянулись снутри синие полумесяцы. Единственной чертой, вызывавшей брезгливую дрожь, был лоснистый изгиб бронзоватых шелков, спадавших по обе стороны звериного тельца. — Как бывшая воспитательница детского сада, могу тебе сообщить, что это – самая обычная крапивница, – сказала полезная Аннетт. – Сколько ручонок отрывали им крылья и тащили ко мне, в надежде на похвалу! Бабочка замерцала и сгинула. 8 Поскольку отпечатать нам предстояло немало, а делала она это медленно и дурно, она взяла с меня обещание не докучать ей во время работы тем, что по-русски зовется “телячьими нежностями”. В прочее время мне только и дозволялось, что редкие прохладные поцелуи да уклончивые обхваты: первое наше объятие она именовала “животным” (очень скоро после него разобравшись в определенных мужских секретах). Из последних сил старалась Аннетт скрыть беспомощность и истому, овладевавшие ею по мере естественного развития ласок, когда она начинала вдруг трепетать в моих руках, перед тем, как пуритански нахмурясь, меня оттолкнуть. Раз она случайно проехалась тылом ладони по напряженному передку моих брюк; она выдавила ледяное “pardon” (фр.), а после надулась, когда я выразил надежду, что она не зашиблась. Я посетовал ей на смехотворно допотопные формы, принятые нашими отношениями. Все обдумав, она обещала, что сразу после “официальной помолвки” мы сможем перенестись в более современную эру. Я заверил ее, что готов возвестить приход этой эры во всякий день и в любую минуту. Она повела меня знакомиться с родителями, делившими с ней в Пасси квартирку о двух комнатах. Он до революции был армейским хирургом, голова в поседелом бобрике, подстриженные усы и аккуратная эспаньолка придавали ему разительное сходство (подстрекаемое несомненно старательным духом, который латает изодранные участки былого новыми впечатлениями, относящимися к тому же разряду) с отзывчивым, но хладоперстым (и хладоухим) врачом, лечившим меня зимой 1907-го года от воспаления легких. Как и о многих русских эмигрантах, испытавших упадок сил и утрату профессии, о докторе Благово затруднительно было сказать, чем он, собственно, живет. Казалось, он коротал пасмурный вечер жизни, либо читая комплекты толстых журналов (с 1830-го по 1900-й или с 1850-го по 1910-й), которые Аннетт таскала ему из Оксмановской прокатной библиотеки, либо сидя за столом и набивая размеренно щелкающей машинкой табак в полупрозрачные кончики папирос, коих он потреблял в день не более тридцати, во избежание ночных перебоев. Разговоров он почти не вел и не мог толком пересказать ни одного из бесчисленных исторических анекдотов, вычитываемых им в потрепанных томах “Русской Старины”, – что и объясняет, откуда взялась у Аннетт неспособность запоминать стихи, статьи, рассказы, романы, которые она у меня печатала (я знаю, что моя воркотня повторяется, да ранка-то ноет, – предпоследнее слово происходит от dracunculus, т.е. “малютка-дракон”). Кроме того, он был одним из последних известных мне господ, еще продолжавших носить манишку и штиблеты с резинками. Он спросил, – и это осталось единственным памятным мне вопросом, – отчего я не прибегаю в печати к титулу, украшающему наше тысячелетнее имя. Я ответил, что я из разряда снобов, полагающих, что плохие читатели нюхом учуют происхождение автора, но надеющихся при том, что хорошего читателя больше заинтересуют их книги, чем родословная. Доктор Благово был бестолковый старик, а его отстежным манжетам не мешало бы быть почище, но ныне, в горестной ретроспекции, память о нем мне дорога: он был не только отцом моей бедной Аннетт, но также и дедом моей обожаемой и, быть может, еще более горемычной дочери. Доктор Благово (1867-1940) сорока лет женился на провинциальной красавице из приволжского города Кинешмы, что стоит в нескольких верстах к югу от одного из самых романтических моих поместий, прославленного дикостью оврагов, теперь обращенных в гравийные карьеры или в места массовых казней, тогда же величественно воскрешавших в памяти образы низинных садов. Супруга его отличалась замысловатостию грима и жеманностью говора, – существительные и прилагательные сводились у ней к нарочито ласкательным формам, какие даже русский язык, признанный гигант по части уменьшительных, способен вытерпеть лишь на влажных устах дитяти да ласковой нянюшки (“Вот, – говорила госпожа Благово, – ваш чаишко с молочишком”). Мне она показалась дамой до чрезвычайности разговорчивой, любезной и банальной, впрочем, со вкусом одетой (она работала в salon de couture[67 - Салон мод (фр.).]). В атмосфере дома ощущалась некая напряженность. Видать, дочерью Аннетт была трудной. При всей краткости моего визита, я невольно заметил, что в голосах родителей появляются при обращении к ней нотки подобострастной паники. По временам Аннетт темным, почти змеиным взором обрывала матушкину болтовню. Когда я прощался, старушка удостоила меня того, что она почитала за комплимент: “Вы говорите по-русски с парижской grasseyement[68 - Картавость, грассирование (фр.).], а манеры у вас совсем английские”. За спиной у нее низко и остерегающе заворчала Аннетт. Той же ночью я написал к ее отцу, уведомляя его, что мы решили пожениться, а на следующий вечер, когда она пришла поработать, я встретил ее в сафьяновых туфлях и шелковом халате. Выходной – празднество Флоры, – объявил я, указывая с не вполне нормальной ухмылкой на гвоздики, ромашки, ветреницы, асфодели и голубые плевелы вперемежку с белокурой пшеницей, украшавшие мою комнату в нашу честь. Взгляд ее метнулся по цветам, по шампанскому, по canapés[69 - Небольшие бутерброды (фр.).] c икрой; она всхрапнула и развернулась, чтобы удрать. Я затащил ее в комнату, запер дверь и ключ положил в карман. Ничего не попишешь, придется признать, что первое наше свидание провалилось. Мне так долго пришлось убеждать ее, что день самый что ни на есть подходящий, а она так препиралась со мной насчет того, какой из последних дюймов ее одежд подлежит удалению, и до каких частей ее тела дозволяют коснуться Венера, Святая Дева и maire[70 - Мэр (фр.).] нашего округа, что ко времени, когда я добился от нее приемлемой для капитуляции позы, сам я успел обратиться в недееспособную развалину. Мы лежали с ней голыми, вяло обнявшись. Наконец ее рот раскрылся под моим в первом добровольном поцелуе. Сила моя воспряла. Я поспешил овладеть ею. Она кричала, что я причиняю ей отвратительную боль, и буйно извиваясь, выталкивала окровавленную, бьющуюся рыбу. Когда же я попытался, в виде скромной замены, сомкнуть вокруг нее пальцы Аннетт, та отдернула руку и назвала меня “грязным развратником” (débauché). Пришлось демонстрировать слякотный акт самому, а она смотрела в изумлении и печали. Назавтра мы оказались успешней и прикончили выдохшееся шампанское, впрочем, я так никогда и не смог вполне ее приручить. Помню самые обещающие ночи в гостиницах на итальянских озерах, когда ее неуместная чопорность вдруг портила все. Но с другой стороны, я счастлив теперь, что не был тогда настолько бессмыслен и низок, чтобы не замечать поразительного контраста между ее раздражающим жеманством и теми редкими минутами сладкой страсти, в которые черты ее приобретали выражение детской сосредоточенности, торжественного блаженства, а тонкие стоны как раз достигали порога моего недостойного восприятия. 9 К концу лета, и новой главы “Подарка”, стало ясно, что доктор Благово с супругой предвкушают настоящее православное венчание – залитый светом свечей златомглистый обряд с батюшкой, дьяконом и двойным хором. Не знаю, изумил ли я Аннетт, объявив, что не желаю ломать комедию и хочу прозаически зарегистрировать наш союз перед лицом муниципального служащего где-нибудь в Париже, Лондоне, Кале или на одном из Нормандских островов, но она явно была не прочь изумить своих родителей. Доктор Благово в напыщенном письме (“Князь! Анна уведомила меня, что Вы предпочли бы...”) запросил свиданья со мной; мы сошлись на телефонных переговорах: две минуты на доктора (включая паузы, во время которых он разбирался в почерке, верно, заставлявшем аптекарей лезть на стены) и пять на его супругу, бессвязно поболтавшую о незначащих пустяках, а затем взмолившуюся, чтобы я изменил свое решение. Решение я изменить отказался и на меня натравили посредника – старого добряка Степанова, который, позвонив откуда-то из Англии (где теперь жили Борги), несколько неожиданно – в рассуждении его либеральных воззрений – принялся уговаривать меня соблюсти прекрасный христианский обычай. Я переменил тему и попросил его по возвращении в Париж устроить для меня прекрасное литературное суаре. Тем временем подоспел с дарами кое-кто из более беспечных богов. Три паданца со стуком запрыгали вкруг меня в одновременном праздничном действе: “The Red Topper”[71 - ”Красный цилиндр” (англ.). В отличие от “top hat”, “toррer” может также обозначать нечто превосходное – человека, одежду и т.д.] был приобретен для издания по-английски с задатком в две сотни гиней; Джеймс Лодж в Нью-Йорке предложил за “Камеру люциду” еще более благообразную сумму (чувство прекрасного удовлетворялось в те дни довольно легко); а в Лос Ангелесе единоутробный брат Ивора Блэка готовил контракт на продажу прав экранизации одного из моих рассказов. Теперь надлежало найти подходящую обстановку и закончить “Подарок” с удобствами, превосходящими те, в которых писалась его первая часть; а сразу за тем или взапуски с его последней главой мне предстояло просмотреть, и без сомнения, значительно переделать английский перевод моего “Красного цилиндра”, приготовляемый в Лондоне неведомой дамой (которая весьма знаменательно предлагала, – пока ее не окоротил разгневанный рев, – “для удобства здравомыслящего английского читателя смягчить или вовсе выпустить несколько мест, не совсем приличных или же фразированных слишком затейливо либо невразумительно”). Ожидалась еще деловая поездка в Соединенные Штаты. По какой-то странной психологической причине родители Аннетт, осведомленные обо всех этих обстоятельствах, принялись теперь торопить ее с браком, – каким угодно, “гражданским или басурманским”, лишь бы поскорее. По окончании этого трехцветного фарса мы с Аннетт отдали дань русской традиции и два месяца переезжали из отеля в отель, добравшись аж до Венеции и Равенны, где я размышлял о Байроне и переводил Мюссе. Вернувшись в Париж, мы сняли трехкомнатную квартиру на очаровательной рю Гевара (названной в память стародавнего андалузского драматурга), в двух минутах ходьбы от Буа. Обыкновенно мы обедали по соседству в “Хромом Бесенке”, скромном, но очень приличном ресторане, а ужинали холодным мясом у себя на кухоньке. Я почему-то ожидал, что Аннетт окажется изобретательной стряпухой, и впоследствии, в суровой Америке, она значительно усовершенствовалась. Однако высшим ее достижением на рю Гевара остались яйца в мешочке: не знаю как, но она ухитрялась предотвращать появление фатальной трещины, порождавшей, когда за готовку брался я, взбухание эктоплазмы в пляшущей воде. Она любила долгие прогулки по парку среди успокоительных буков и обещающего вида детишек; она любила cafй, показы мод, теннисные матчи, круговые гонки на “Велодроме” и в особенности кино. Я скоро усвоил, что небольшое количество развлечений создает в ней потребный для любовных занятий настрой, – а я в последние наши четыре парижских года был пугающе обилен и крепок и совершенно не выносил капризных отказов. Я ограничил, однако, чрезмерное потребление атлетических зрелищ –метрономических метаний струнно-звонкого теннисного мяча и гнусно волосатых ног горбунов на колесах. Вторую половину тридцатых отметило в Париже чудотворное возвышение изгнаннических искусств, и с моей стороны было бы дурацкой претензией не признавать, что какую бы чушь ни писал на мой счет кое-кто из самых бессовестных критиков, я оставался высшим достижением этого периода. В залах, где проходили чтения, в задних комнатах знаменитых кафе, на частных литературных вечерах, я с удовольствием показывал моей спокойной и стильной спутнице различных призраков ада, проходимцев и проныр, величавых ничтожеств, участников всякого рода группок, тронутых гуру, благостных педерастов, пленительно истеричных лесбиянок, седовласых стариков-реалистов, одаренных, неграмотных критиков новой интуитивной школы (чьим незабвенным вождем был Адам Атропович). Со своего рода ученым удовольствием (какое испытываешь, прослеживая в тексте параллельные места) я примечал внимание к ней, постоянную готовность выказать уважение, проявляемую тремя-четырьмя всегда одетыми в черное великими магистрами русской словесности (людьми, которых я обожал с благодарным ознобом не только за то, что высокие принципы их искусства заворожили меня на заре моих дней, но еще потому, что большевицкий запрет на их книги явился величайшим, совершенным и окончательным обвинительным приговором режиму Ленина-Сталина). Не менее услужливо вертелись вокруг нее (возможно, из подсознательной тяги заслужить редкую похвалу из тех, коими я порой снисходительно жаловал какой-нибудь чистый голос в стане нечистых) определенного толка молодые писатели, которых их Бог сотворил двуликими: одно лицо – прискорбно растленное или пустое, а другое сияет мучительным даром. Словом, ее появление в beau monde[72 - Высший свет (фр.).] эмигрантской литературы забавно отзывалось восьмой главой “Евгения Онегина”, в которой княгиня N. невозмутимо проходит сквозь льстивую сутолку бальной залы. Меня могла бы удручить терпимость, проявляемая ею в отношении Базилевского (сочинений его она не знала и лишь смутно догадывалась о его репутации наизнанку), но мне представилось, что ее симпатия к нему, так сказать, тематически повторяет дружескую фазу моих собственных начальных отношений с этим faux bonhomme[73 - Скользкий тип (фр.).]. Из-за дорической, более-менее, колонны я подслушивал, как он выспрашивает у моей наивной, нежной Аннетт, не известно ли ей, отчего я так яро ненавижу Горького (перед которым он почитал себя обязанным преклоняться)? Не оттого ли, что меня обижает выпавшая пролетарию всемирная слава? И прочел ли я хоть одну из превосходных книг этого автора? Аннетт, казалось, встала в тупик, но вдруг лицо ее озарилось обаятельной детской улыбкой, и вспомнив, как я разругал “Мать”, слащавый советский фильм, она сказала: “Оттого, что слезы, текущие по лицу, чересчур велики и слишком медленно катятся”. — Ага! Это многое объясняет, – с мрачным удовлетворением возвестил Базилевский. *** *** *** Источник : https://librebook.me/smotri_na_arlekinov *** *** *** --- СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 001 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 002 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 003 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 004 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 005 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 006 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 007 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 008 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 009 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 010 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 011 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 012 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 013 *** *** *** *** Смотри на арлекинов!Материал из Википедии — свободной энциклопедии
«Смотри на арлекинов!» (англ. Look at the Harlequins!) — последний завершённый роман Владимира Набокова. Написан в 1973—1974 годах на английском языке. Впервые издан в 1974 году в Нью-Йорке. На русском языке роман впервые опубликован в 1999 году в переводе Сергея Ильина в пятом томе Собрания сочинений американского периода. Андрей Бабиков подготовил новый перевод романа под названием «Взгляни на арлекинов!», с подробными примечаниями, который вышел в издательстве «Азбука» в 2013 году. СюжетРоман представляет собой мемуары рассказчика Вадима Вадимовича Н., знаменитого русско-американского писателя (как и сам Набоков), охватывающие пятьдесят лет его жизни в нескольких странах: дореволюционной России, Франции, США и Италии. В центре повествования Вадима Вадимовича — описание трёх его браков (с англичанкой Айрис Блэк, русской эмигранткой Аннеттой Благово и американкой Луизой Адамсон), адюльтера с Долли фон Борг (явная отсылка к Лолите), его двусмысленных отношений с дочерью Изабеллой и история его последней любви к ровеснице его дочери, американке русского происхождения, имя которой остаётся неизвестным. Эту свою последнюю возлюбленную повествователь называет «Ты». Её жизнь, внешность и подробности их романа описываются предельно лаконично, оберегаемые героем от сплетен и домыслов его биографов. В самом конце романа она принимает предложение Вадима Вадимовича стать его четвёртой женой. Герой романа страдает особой формой умственного расстройства, не позволяющей ему совершить умозрительный поворот кругом, когда он воображает себе какой-либо отрезок пройденного пути. Видя в этом безобидном пороке своего сознания симптом возможного помешательства, герой считает своим долгом предупредить каждую из трёх своих жён и свою последнюю невесту, прежде чем сделать им предложение, об этой возможности, в мельчайших подробностях описывая на умозрительном примере эту свою странность. Ни одна из трёх его жён не находит в этом его расстройстве ничего опасного и не может помочь ему, кроме его последней возлюбленной, которая объясняет Вадиму Вадимовичу, что он путает пространство и время, пытаясь мысленно вернуться назад во времени, а не пространстве. Эта тема сближает последний роман Набокова с его самым крупным английским романом «Ада» (1969). Источник :Википедия *** *** ПОДЕЛИТЬСЯ ---
--- --- --- --- ---
...и вновь часы*** Читать, смотреть ... - Ссылки на фото в папках Яндекс-Диска - 01 *** ***
--- *** *** --- --- --- *** *** *** *** *** --- --- --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- --- --- АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Всего комментариев: 0 | |