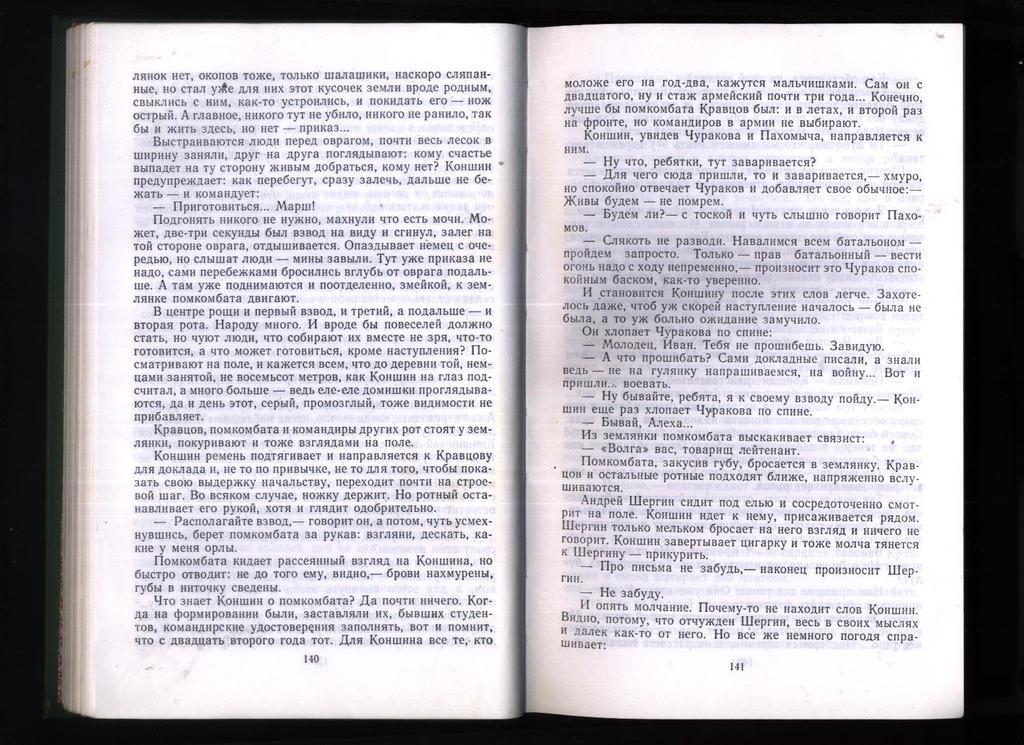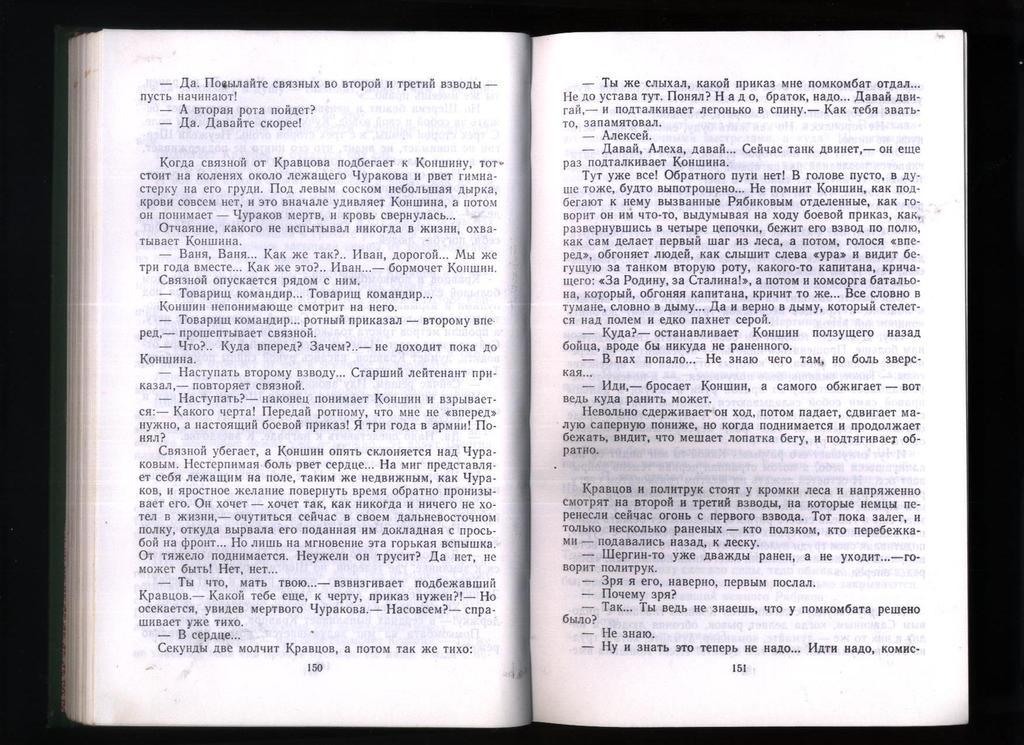13:06 Селижаровский тракт. 006. Повесть. Кондратьев Вячеслав | |
|
Коншин не успел ответить "есть", как связь оборвалась. — Ах ты черт! Вася, давай обратно, где-то перебило! — кричит связист подползающему бойцу, своему напарнику. Тот молча пополз обратно. "Продолжать движение… — бормочет про себя Коншин. — Но разве не ясно, что потери большие, что дай бог еще метров сто продвинуться, а дальше идти уже не с кем будет…" Но он отсекает мысли о бесплодности дальнейшего продвижения, потому как приказ есть приказ, начальству, может, виднее… Вдруг на Усово пошел второй батальон? И привычка подчиняться приказу взяла свое — вперед так вперед… Он привстает на колено, взмахивает рукой, кричит: — Рота, продолжать движение! Вперед! Вперед! Увидев, что несколько человек поднялись, он тоже бросается вперед, держа направление к танку… Изредка оглядываясь, видит, что третий взвод, лишенный командира, не принял его команды, лежит не двигаясь, так же как и вторая рота… Танк, ее поддерживающий, развернулся и уходит в тыл, не выдержав огня, преследуемый жесткими короткими хлопками противотанковых пушек. Немцы, сбавившие немного стрельбу, пока рота лежала уткнувшись, сейчас, увидев, что люди двинулись, опять усилили огонь и прижали их к земле. Обернувшись, Коншин видит, что метров на двадцать опередил он взвод, но тот растянут и близко около него всего несколько человек. Сколько же осталось людей? Этого он не знает. Надо, конечно, двигаться позади взвода, чтоб все было на виду, как и требовал комбат на последнем привале, но… учили-то их по-другому — вперед, за мной… Лежат они с Рябиковым как раз напротив танка, который скрывает их от немцев и тем самым и от обстрела, а мины фриц кидает дальше — по взводу, и они, с воем перелетая, рвутся где-то сзади, и кого-то там либо ранит, либо убивает. Теперь понимает Коншин, почему во встречных санитарных поездах все больше было раненых в руки и ноги, — с такими ранениями самим с поля боя выбраться можно, а кого потяжелее… Как сюда санитары доберутся, если его ранят тяжело? Может, к ночи только. А до ночи доживешь или нет? Должно бы страшно сделаться при такой мысли, но страху и так доверху — больше не умещается в его душе, и проходит эта мысль как-то мимо, не задев глубоко.
Видя, что противник залег, немцы огонь уменьшили: видно, боеприпасы экономят, зря не расходуют. Эх, пролежать бы здесь до самого приказа на отход. И к танку незачем двигать — в воронке этой укрытисто и спокойно. Завертывает Рябиков по цигарке, запаливают, но не успевают и затяжки сделать, как слышат урчит сзади танк. Значит, вторым заходом на поле вышел, ну и шум сразу, и "ура". Правда, недружное, слабенькое. — Обождем своих, — говорит Рябиков. Коншин соглашается и чуть высовывает голову посмотреть назад, на ребят. Вторая рота за танком опять двинулась, а его взвод и третий и не шелохнулись, да и как поднимешься, когда немцы снова и бризантными, и минами, и пулеметами стали сечь… Но команды "вперед", слышные позади, словно стегают Коншина по душе — надо подниматься. Если он не поднимется — рота не двинется, не стронут ее отделенные. Опять кидает взгляд назад Коншин — да, лежат люди… По тому, как жадно докуривает он цигарку, понимает Рябиков — сейчас вставать придется, и как-то померк взгляд… Досмаливает цигарку, поправляет ремень… Неохота смертная им обоим вылезать сейчас из этой воронки. И неизвестно, смог бы Коншин заставить себя, если бы не голос политрука сзади: — Первая рота! Слушать мою команду! Вперед! Вперед! Выходит, думает политрук, что погиб Коншин, раз берет роту на себя, а он здесь отлеживается… Что политрук решит? И то, что политрук, или помкомбата, или бойцы смогут подумать, что струсил он, толкает его, выбрасывает из уютной воронки, вырывая из груди отчаянный крик: — Первая рота! Направление — подбитый танк! За мной! Вперед! И не бежит Коншин, а стоит под пулями, пока не видит — поднимаются люди, делают рывок вперед, ну и он тогда… К танку, скорей к танку… Бежит, падает, поднимается, опять бежит… — Давай, давай! — кричит не переставая, машет левой рукой призывно. — За мной, ребятки, за мной! — пока не спотыкается о падающего ему под ноги Рябикова и, валясь кулем в снег, не слышит откуда-то, кажется ему, будто с неба, торжествующий голос: "Попался, рус… Сдавайся…" — и близкую дробь автомата, пули которого просвистывают над головой. Отвалившись от Рябикова, жмется Коншин в умятый гусеничный танковый след, в который они упали, не понимая еще ничего, не соображая еще ничего, только видя побелевшее лицо Рябикова с вытаращенными глазами и чувствуя, как холодный липкий пот заливает тело. — Немцы… Под танком… Я как увидел — вам под ноги, — шепчет Рябиков. Начинает теперь понимать обстановку Коншин, и ужас, объявший его поначалу, сходит, потому как слышатся и крики, и стрельба, правда не густая, двигается, значит, рота, не одни они будут, подойдет подмога. До танка метров сорок. Гранату, пожалуй, с лежачего положения не докинешь, голову не высунешь. Одно остается — дождаться роту, а пока вкопаться поглубже. Рябиков это уже сообразил, вернее, не сообразил, а сработала пехотинская выучка — где ни лег, скорей за лопатку… Снег они наружу не выбрасывают, а сдвигают его поперед следа и довольно скоро до стерни доходят, тут и конец их окапыванию, мерзлую землю лопатки не берут, но уже достаточно скрыты они в этом следе хорошо… Несколько раз, пока они копали и ненароком их туловища немного высовывались, немцы пускали короткие очереди, но больше не орали. Сколько их там может быть — двое, трое? Но наверняка окопчик у них там, под танком, придумали неплохо. Сверху махиной танка закрыты, от пуль окопчик спасает. Видно, сторожевой пост сюда выдвинули. И что было бы, если они этот танк обошли, — прямо в спины, с тыла начали бы немцы их обстреливать, ну и паника, конечно, в цепи вышла. Теперь уже Коншин соображает, как этих немцев им прихватить, когда рота подойдет, но там, сзади, видимо, опять заминка — что-то не слышится никакого движения, а посмотреть не посмотришь… — Как ты их заметил? — спрашивает Коншин. — Вы все время назад оборачивались, а мне почему-то к этому танку подбегать не хотелось. Словно чуял чего. Ну, и все время к нему приглядывался. И когда бежали, и когда залегли мы. А тут, смотрю, вроде автомат торчит из-под днища. Стрельнуть не успел, сразу вам под ноги. — Зачем же они крикнули? — вслух думает Коншин. — Кто их знает? Может, забоялись, что в тыл им забежим? — Они пристрелить нас могли запросто… Что-то непонятно. Коншин вынимает "лимонку" и кладет около себя. Рябиков тоже. — Как ребята к нам подойдут, будем бросать. Может, достанем. — Попробуем. Они уже очнулись и разговаривают спокойно; только жаль, высунуться нельзя — посмотреть, что сзади, а там чего-то затихло, никто команд никаких не кричит, только рвутся мины немецкие… Может, политрука ранило и некому людей поднять. Да, конечно, не надо было отрываться так далеко от роты, думает Коншин. И тут вдруг сквозь грохот боя прорывается пронзительно: — Отхо-о-од… Отхо-о-о-д… У Коншина падает сердце, он всем нутром ощущает, как поворачивают назад бойцы, как ползут обратно, а может, кто и бежит, чтоб поскорей убраться с этого мертвого поля. У Рябикова опять глаза выпучились, заерзал всем телом, словно готовя его к рывку. — Лежать! — Коншин кладет руку на его плечо и прижимает к земле. — Одни же останемся, командир… Совсем одни, — бормочет он. — Лежать, — повторяет Коншин, еле сдерживая и себя, чтоб не подняться и не побежать назад. А сзади: "Вторая рота — отход!" И это повторяется на разные голоса "отход, отход"… Коншину хочется закричать то же самое, вскочить и бежать, бежать изо всех сил назад, лишь бы не остаться им одним на этом поле, в сорока метрах от немцев… — Что делать? — шепчет Рябиков. — Не знаю… Коншин переворачивается на другой бок, и его плечо на секунду высовывается наружу, тут же автоматная очередь и тот же противный торжествующий голос: "Попался, рус, сдавайся". Коншин безобразно, как никогда в жизни, матерится, и это грязное ругательство, произнесенное шепотом, как-то отводит душу, как-то заставляет забыть о безвыходности положения, но все же каждое новое "отход", доносящееся до них, наливает отчаянием — одни, совсем же одни они на этом поле… И главное, не может он сосредоточиться, не может найти выхода, только какие-то обрывки мыслей, далеких и ненужных сейчас, носятся в мозгу… А позади отход… Еще кидают немцы мины по отступающим, но все реже разрывы, утихает пулеметная пальба, и нестерпимое желание быть сейчас со всеми, попасть в тот лес, из которого они наступали и который кажется сейчас чуть ли не землей обетованной, заставляет Коншина напрячься для броска, потому что страшнее лежать здесь, чем бежать под пулями. Но теперь Рябиков прижимает его рукой. — Дотемна надо лежать, командир. — И эти трезвые слова заставляют Коншина расслабить тело. — Да, наверно, — соглашается он и смотрит на связного. Лицо Рябикова в подтеках грязи, лоб исцарапан, но глаза живые, и вдруг этот чужой паренек, знакомый ему всего месяц, становится для него самым дорогим, самым близким человеком. Нет, не один он на этом поле, вдвоем они… — Как тебя звать? — спрашивает Коншин. — Рябиков, — отвечает тот, удивленно вскинув брови. — По имени? — Серега… А что? — Так… Коншин протягивает руку, и они, не снимая рукавиц, обмениваются рукопожатием. — Живы будем — не помрем, — невольно повторяет Коншин слова Чуракова и тут же сжимается от боли: нет уже Ивана, нет… Жив ли Пахомыч? Рябиков улыбается: — Выберемся, командир… А на поле все затихает… И эта наступившая и необычная — после не прекращающегося почти час грохота и воя — тишина наваливается на них тяжелым, мертвящим ужасом… Коншин поворачивается на спину и видит серое безнадежное небо, по которому легкий ветер медленно относит клочья дыма, висящие над полем боя… И вдруг: "Помогите… Санитары…" Голос совсем слабый, но в наступившей тишине слышится ясно, и Коншин узнает его — это Савкин. "Братцы… Санитаров бы…" — раздается опять, и Коншин не выдерживает, на миг приподнимается. Тут же стрекочет автоматная очередь — и Рябиков сильно дергает Коншина назад. Несколько пуль пролетают над ними, несколько впиваются в снег рядом. — Это Савкин, — шепчет Коншин, — ноги, по-моему, перебиты. — Ничего не сделаешь, командир… — Кровью истечет… — Нечем помочь, командир… Вылезем — убьют немцы верняком. Да, конечно… Но Коншин представляет, что испытывает сейчас Савкин, какие муки принимает перед смертью, лежа сейчас беспомощный и уже понимающий, что никто к нему не придет. Никто… Еще несколько раз звал Савкин санитаров, с каждым разом все слабее и тише, а потом умолк… Как ни странно, и Коншину, и Рябикову стало легче, потому что все время мучила их совесть, что они должны и в то же время не могут ничем помочь… — Отмучился… — вздыхает Рябиков. Разгоряченные бегом тела начинают остывать. Сперва коченеют ноги, потом руки, а вскоре холод залезает внутрь. Хорошо, что мороз невелик, градусов восемь — десять, но и то, думают они, дотемна можно закоченеть совсем, надо бы что-то предпринять… Глубокая вмятина от гусеницы танка идет вправо, в лощину. Видно, он шел оттуда, потом вышел на поле, повернул здесь и, не пройдя от поворота метров пятидесяти, был подбит. Они лежат как раз в следе, идущем вдоль поля, недалеко от поворота. Может, начать прокапывать и потихоньку ползти в прокопе до лощины, а оттуда уже как-нибудь, где ползком, где перебежками, добраться до рощи. След в некоторых местах глубокий, а в некоторых совсем мелкий. Там-то и придется копать. Настоящей темноты ждать здесь не очень тоже — подползут немцы незаметно, закидают гранатами. А еще беспокоит — не могут ли немцы через люк пробраться в танк? Тогда с башни Коншин с Рябиковым как на ладони расстреляют запросто. Правда, танк сильно разворочен. Наверно, все внутри смято; и потом, кабы могли, то давно бы забрались, но все же лучше от танка подальше… На том и порешили. Лежат лицом друг к другу. Коншин справа. Ему и разворачиваться, а как? След узкий, вертись не вертись, а какая-то часть тела высунется, немцам покажется — врежут непременно. Но делать нечего, начинает Коншин подбирать под себя ноги. — Помогите, командир, — говорит Рябиков, снимая каску, и пятится назад. Отвлеку фрица. Нацепляет он каску на ствол автомата и, отползая от Коншина на несколько шагов, готовится высунуть ее. — Приготовились? Валяйте. — Он высовывает каску, а Коншин рывком перебрасывает тело. По каске ударяют несколько пуль, и она, звеня, раскачивается на стволе. Еще раз благодарит Коншин случай, что не один он здесь, а с этим Серегой, который, оказывается, и находчивей, и сообразительней его. Теперь за работу… Тело и руки маленько согреваются, но ноги замерзают все больше и больше. У Коншина как-то странно пусто и в душе, и в голове. Он не думает ни о прошедшем бое, ни о том страшном, что произошло, ни об убитом на его глазах Чуракове, ни о Савкине, так и не дождавшемся помощи. Он сосредоточенно копает, углубляясь вперед, и только в копанье, в этом движении, сейчас весь смысл его существования. Все замыкается для него в этом узком, неглубоком следе от гусеницы, который уводит его от смерти. Пять человек осталось от отделения Пахомова — трое убиты, четверо ранены, — и сейчас сидят они в шалаше, притиснутые друг к другу вокруг небольшого костерика, разожженного в каске. Руки протянуты к огню — бьет озноб. Они еще не верят, что остались живыми, и все угрюмо молчат — как-то не до разговоров. Уж больно страшен и безнадежен был первый бой. Некурящий Пахомыч раскашливается от каждой затяжки, но все равно мусолит цигарку — тоска сжимает сердце, прямо хоть вой… Он видел труп Чуракова, он знает, что не вернулся с поля Коншин. В роте не осталось больше никого из однополчан — он один. Если завтра будет еще бой, вряд ли ему остаться живым. Конечно, не все из окопа разумеет боец. Быть может, и не должен он понимать все. Но всегда хочется понять ему смысл приказанного. Если проводили они разведку боем — тогда ясно. Но если было это просто не совсем продуманное, не очень-то подготовленное наступление — тогда обидно до боли. Двух танков было явно мало, как и двух мин на миномет и двух снарядов на ствол. И раскалывается голова Пахомова от этих мучительных и безответных вопросов… — Что ж, командир, неужели завтра опять в наступление? — Ну, откуда ему знать? Это надо комбрига спросить, — перебивает другой. Разговор начинает разгораться помаленьку, и такой, который Пахомов, как командир, прекратить обязан — начальство стали поминать неласково, — но Пахомов никогда металлом в голосе не обладал, и командирства в натуре у него не было, да и согласен он с бойцами — что говорить, порядка не было, а кто в том виновен, среднее ли начальство или большое, кто знает… — Ну, чего ты лаешься? — наконец прерывает кто-то. — А политрук наш? Почитай, без него половину раненых на поле оставили бы. Видал, как метался он под пулями, а заставил всех подобрать. — Я о политруке ничего не говорю. Чего политрук, он с нами в цепи шел… — А ты что хотел? Чтоб и комбриг в цепи с тобой топал? У каждого свое место. — Это оно так. Но вижу я, наше место самое худшее. — На то ты и рядовой ванька. Разговор утих на время, а потом молоденький боец, совсем мальчонок, произносит с таким надрывом в голосе, что все поневоле поеживаются: — Неужели побьют всех нас?… На что пожилой, первый начавший разговор, отвечает: — Всех не всех. Кого-то ранит, ну а кого-то, конечно, и прибьет до смерти… На то и война… "Да, война", — наверно, каждый произносит про себя, но разве это успокоит? Метров шестьдесят, наверно, пробились Коншин со своим связным по танковому следу, и танк теперь от них видится в три четверти. Теперь немцам, чтоб стрелять по ним, надо из окопчика вылезать, потому как ходовая часть танка видимость им закрывает. Уже начинает пробиваться надежда, что выкарабкаются все же, доберутся до своих. И когда опасность понемногу отодвигается от них, больше начинает клонить их в сон. Еле сдерживаются, чтоб не задремать прямо здесь, в снегу, в шестидесяти метрах от немцев. И одна мечта: как доползут они до своих, заберутся в шалашик, отогреют у огня иззябшие, закоченевшие ноги и провалятся в небытие, чтоб забыть обо всем. Понемногу темнеет небо над ними, и — к счастью. Добрались они почти до склона, и снег отметен тут ветром, след от гусениц мелкий, с торчащей колкой стерней. Дальше невидимыми не проползешь… Придется дожидаться настоящей темноты, но наступит она не так скоро, а когда ждешь чего-нибудь с нетерпением, время тянется… Опять холод по всему телу, и томит бездействие. Коншин, более нетерпеливый, предлагает: — Рванем, может, Серега? — Нет, командир, потерпим маленько… Обидно же будет, если… — Он не договаривает, но Коншин понимает: конечно, обидно, почти же выкарабкались, на что поначалу и не особо надеялись. Медленно, очень медленно гаснут кровянистые облака над деревней. Самого солнца не видать, но тучи оно сделало малиновыми, даже чуть лиловыми. Нехороший закат, мрачный, но им не до того — лишь бы скорей стемнело. Разговора не заводится, да и одолевает их обоих зевота нервная, но опять ощущает Коншин, что ближе Сереги нет у него сейчас человека, что спаялись они за несколько часов крепко. Надо бы теперь всегда вместе, думает Коншин. Но вот с востока налезает на небо синева, начинает вроде смеркаться, и надо готовить затекшие тела для рывка. Но рвать ли? Может, лучше ползком до лощины? И благоразумный Рябиков склоняет Коншина к этому. И вот ползут они, вжимая тела в землю, непрестанно ожидая автоматной очереди из-под танка, все еще боясь верить, что уходят от смерти, и когда добрались до лощины, когда сползли с ее склона, долго лежали обессиленные, перемученные, глотая махорочный дым, пряча огоньки цигарок. — Ну, пошли, что ли? — говорит Коншин, приподнимаясь. — Пошли, командир. И, согнутые в три погибели, тяжело переставляя затекшие ноги, идут они по дну лощины к чернеющей стене леса, из которого не слышится ни звука, не видится никакого движения, будто мертвый он, будто нет там людей. И когда подошли уже близко и с немецкой стороны взвилась первая ночная ракета, испугались, как бы не бабахнули свои из леса, приняв за немцев, а что может быть обидней — свои угрохают. Они поднимаются в рост, начинают громко разговаривать… — Ребята, есть кто? Это мы — свои… Слышите? — не выдерживает Рябиков, но в ответ ни звука. — Дрыхнут, что ли? — Может, отвели батальон? — предполагает Коншин. Но двигаться дальше страшно — врежет какой-нибудь со страху… Они останавливаются. Еще раз Рябиков, уже погромче, спрашивает черноту стоящего перед ними леса: есть кто-нибудь? Отликнитесь! Но опять никакого ответа. Поколебавшись немного, наконец решаются они двинуть дальше. Входят в лес, раздвигают ельник, спотыкаются о трупы, о поваленные деревья — никого… Проходят дальше и наталкиваются на кого-то, сидящего на пеньке. Поставив винтовку между колен, согнувшийся, сидит он и дремлет. Коншин дотрагивается до его плеча, но тот даже не вздрагивает от неожиданности, а только медленно поднимает голову и смотрит на них каким-то отсутствующим, бессмысленным взглядом. — Где люди? — спрашивает Коншин. — А нет людей… Побило всех… — отвечает он усталым, бесцветным голосом. — Ну чего порешь? — вступает Рябиков. — Давай очухивайся! — Я не порю, — опускает снова голову. — Побило людей… Он начинает сопеть носом, затем закрывает голову руками, и его плечи сострясаются от всхлипов. — Побило всех, побило… — бормочет он. Коншин, встряхивая его, приказывает идти к краю леса и наблюдать. Тот с трудом встает и бредет, как слепой, натыкаясь на деревья… Коншин глядит вслед, хочет выругаться, но сил нет. Наконец недалеко от землянки помкомбата встречают они несколько человек из второго, коншинского, взвода. Наложили лапнику под большой елью, и кто сидит, кто лежит съежившись, попыхивают огоньки цигарок. Коншин подходит. Один-два человека поднимают голову, но глядят на него без удивления, безразлично, будто он не с поля приполз, а был с ними все время. И понимает Коншин, что смяты люди, подавлены настолько, что все им теперь безразлично. Да и не знают они, что остался он на поле, потому как, видимо, разбрелись все кто куда. — Ротного ранило? — спрашивает Коншин после некоторого молчания. — Убило. Подходит сержант, командир отделения. Он удивлен. — Откуда, командир, мы думали… — "Откуда", "откуда"! — вступил Рябиков. — Кабы вы поближе к нам были, могли бы немцев прихватить… А вы, как отход дали, сразу назад, не подумали, почему командир не отходит, почему нет его… — Какие немцы? — спрашивают, оживившись, бойцы. — "Какие", "какие"! Под танком — немцы. Поняли? И держали нас дотемна. Как шевельнемся — так очередь над головой… Рябиков теперь, как отошло все, видать, гордится тем, что приключилось с ними, рассказывает подробности взахлеб, а Коншин отправляется к землянке помкомбата. Там накурено, темно. Лейтенант сидит прямо на полу, прислонившись к стене, воротник шинели поднят, глаза на осунувшемся лице закрыты, в губах торчит потухший окурок. — Товарищ лейтенант, — трогает его за плечо Коншин. Тот открывает глаза, непонимающе смотрит, потом опять закрывает. Да, нелегко ему после такого, думает Коншин, но все же какое-то раздражение, даже злость входит в душу: наломал-таки дров лейтенант с этим "на пробу", и он, уже не церемонясь, встряхивает помкомбата. Тот вздрагивает и просыпается окончательно. — Коншин? — не очень-то удивляется он. Видно, после этого страшенного боя никому ни до чего… В живых остались и ладно, потом во всем разберемся… Коншин рассказывает о случившемся. — Значит, немцы под танком? — спрашивает помкомбата и морщит лоб, что-то соображая. Коншин догадывается, о чем тот думает: можно ли взять тех немцев ночью? И его охватывает опасение: не ему ли прикажут идти на это, а он так умучен, что только одно хочется — спать, спать и ни о чем не думать… Помкомбата приказывает связисту соединить его с комбатом, и тот начинает крутить телефон: "Волга", "Волга"… Под эту "Волгу" Коншин, присев рядом со связистом, вдруг проваливается в сон, от которого через несколько секунд его отрывает оглушительный грохот артиллерийских залпов. Некоторое время огонь идет по тылам, а потом обрушивается на их местоположение… Дрожит земля. Дрожит потолок землянки. Разрывы хлопают совсем близко, но самое страшное — сильнейший огонь по тылам. "Отрезают", — думают и помкомбата, и Коншин, иначе чем же объяснить эту канонаду позади? И тут вваливается в землянку Рябиков. — Бегут люди! Паника! — выхрипывает он. — Вроде танки немцы пускают. Расстегивая на ходу кобуру, помкомбата выбирается из землянки, за ним Коншин. Черными тенями мимо пробегают бойцы. — Куда? Отставить! — кричит помкомбата, стреляя в воздух из пистолета, но вдруг осекается — разрыв рядом освещает кошмарное: в нескольких шагах от землянки — стоит, пока еще стоит, покачиваясь, что-то непонятное, уже не похожее на человека, все разодранное спереди — грудь, живот, а вместо лица окровавленная маска. Коншин закрывает глаза, а когда открывает, видит обмякшего, осевшего лейтенанта. А люди бегут… Кто-то уже кричит: "Отрезают!" — кто-то визжит: "Танки!" И Коншин чувствует, как паника охватывает и его, как хочется ему тоже разорвать рот и, что-то крича, бежать и бежать из этого ада, чтобы и с ним не случилось того же, что с тем, у землянки… Видит, что и с помкомбата творится то же самое Что случилось бы дальше — бросились бы они бежать вместе с бойцами или все же нашли силы взять себя в руки и остановить панику — неизвестно. Только замечает Коншин, как слева взмывается фейерверком автоматная очередь из трассирующих — и люди останавливаются, потом медленно пятятся назад; на них с поднятым ППШ, из ствола которого летят красные точки, наступает политрук его роты. — Какие танки? Кто видел танки? Назад! Нет никаких танков! — кричит он. Всем занимать оборону! По своим местам! Где бронебойщики? Занять позиции! За политруком идет с карабином какой-то старший лейтенант, видимо, артиллерист, который тоже кричит: — Вот стоят мои пушки! Мы не пустим танки! Прекратить панику! Где помкомбат? Где командиры рот? Народ понемногу успокаивается, хотя и рвутся вокруг мины, хотя и бухают сзади артиллерийские снаряды, хотя в редкие промежутки между разрывами слышится рокот танковых моторов. — Вы помкомбат? — подходит артиллерист к лейтенанту. — Что же вы? Остановите людей! Организуйте оборону! Что с вами? — Помкомбата вдруг сламывается, и его начинает тошнить. — Вы кто? — обращается старший лейтенант к Коншину. — Коншин! — восклицает политрук. — Живой? Откуда? Это сержант Коншин, он принял первую роту. — Так чего же вы? Тоже скисли! Мальчишки! Давайте организовывать оборону. Командуйте же, черт вас возьми! Это же ваши люди. Коншин наконец очухивается. Спокойный и требовательный голос старшего лейтенанта, презрительное "мальчишки" заставляют его стронуться с места, и он мечется по роще, собирая бойцов и отделенных, направляя их к опушке в ненадежные снежные окопчики… Обстрел начинает утихать. Не слышно и рева танковых моторов. Выходит, попугали их немцы только, показали, на что они способны, ну и кровушки пустили. К тем потерям, что при наступлении понесли, еще прибавилось. Сколько в батальоне осталось, придется завтра подсчитывать. И в наступившей тишине стоны раненых и жалобное: "Братцы, санитаров…" Превозмогая неимоверную усталость, Коншин вместе с политруком еще долго ходят по леску, организуя вынос раненых… Коншин с удивлением отмечает, что нет уже в его сердце той щемящей жалости к ним, какую испытывал вначале, — вот как торопятся в тыл, вот как боятся, чтобы не добило… — Ждите своей очереди. Санитаров мало, — бросает Коншин, поражаясь холодности своего голоса, и ловит себя: не завидует ли он им, которые завтра будут в санроте, в безопасности и тепле? Ему же завтра опять принимать утренний минометный налет, опять, может, идти в наступление… Так чего же ноете? Потерпите, всех вынесем, только не сразу… Было около десяти вечера, когда наконец они с политруком устроили ротный КП в большой воронке от авиационной бомбы. Настлали лапнику вниз, сверху перекрыли воронку тонкими стволами сломанных березок и елок. В центре разожгли костерик и разместились вокруг него все шестеро: двое связистов, двое связных и их двое. Все были измучены донельзя, но заснули только бойцы — Коншин и политрук спать не могли. У Коншина вертелись в голове картины прошедшего дня, и какая-то огромная обида, что так неудачно все вышло, сдавливала грудь. "Почему так случилось? Почему так нелепо все сложилось? Почему? Почему?" громоздились, налезая друг на друга, мысли и не находили ответа. Политрук посасывает цигарку и смотрит в огонь потухшим, усталым взглядом думает, видать, о том же… Но пока они молчат, каждый в своих мыслях, да и сил нет говорить. Политрук вообще не особо разговорчив, не изводит бесконечными беседами и поучениями. Он старался поговорить с каждым в отдельности, по-простому, ну и на старшину часто нажимал, чтобы с довольствием порядок был. В общем, ничем он не выделялся, на голос никого не брал, а вот он все-таки остановил панику, организовал вынос раненых и с поля боя, и после вечернего налета… Читать дальше ... *** *** Селижаровский тракт. 001. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 002. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 003. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 004. Селижаровский тракт. 005. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 006. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 007. Повесть. Кондратьев Вячеслав *** Дорога в Бородухино. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 002 *** Селижаровский тракт. 01. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 003 *** Селижаровский тракт. 02. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 004 *** Селижаровский тракт. 03. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 005 *** Женька. Рассказ. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 006 *** Встречи на Сретенке. Повесть. Книга. Сороковые. Вячеслав Кондратьев. Страницы книги *** Вячеслав Леонидович Кондратьев. ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ. Повесть. 001 *** Сашка. 001. Повесть.Вячеслав Кондратьев *** Страницы книги. Сашка. Повесть. Вячеслав Кондратьев. 001 *** Вячеслав Кондратьев. ... Стихи... *** Правда Вячеслава Кондратьева *** *** На станции Свободный. Рассказ. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 001 *** ПОДЕЛИТЬСЯ
*** *** *** *** *** | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |