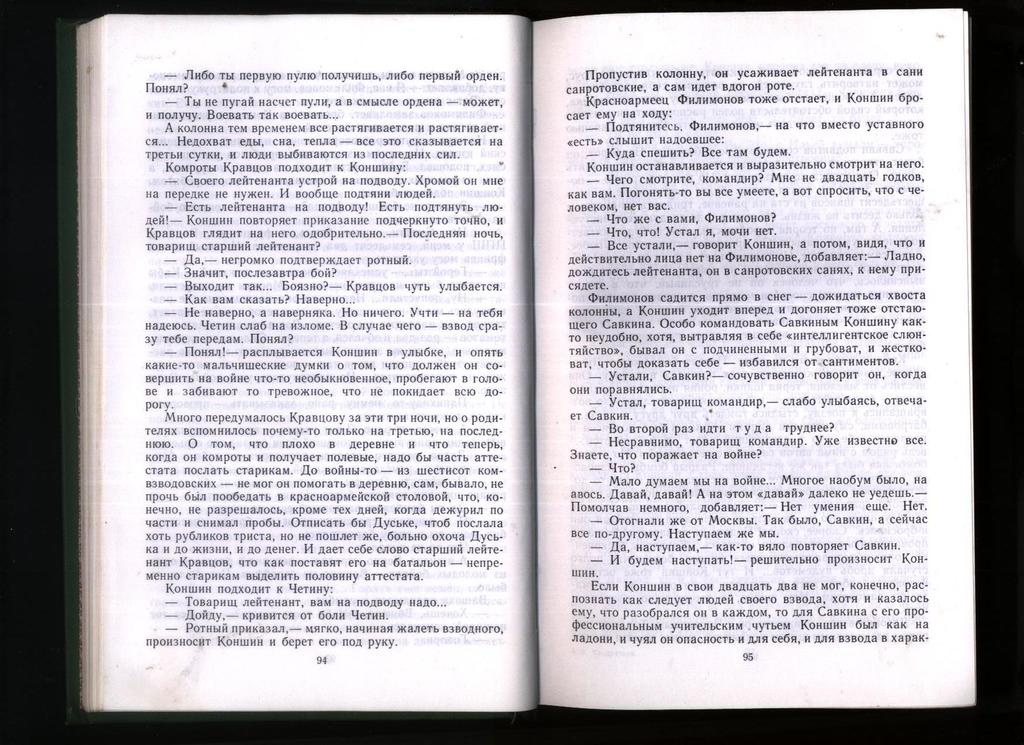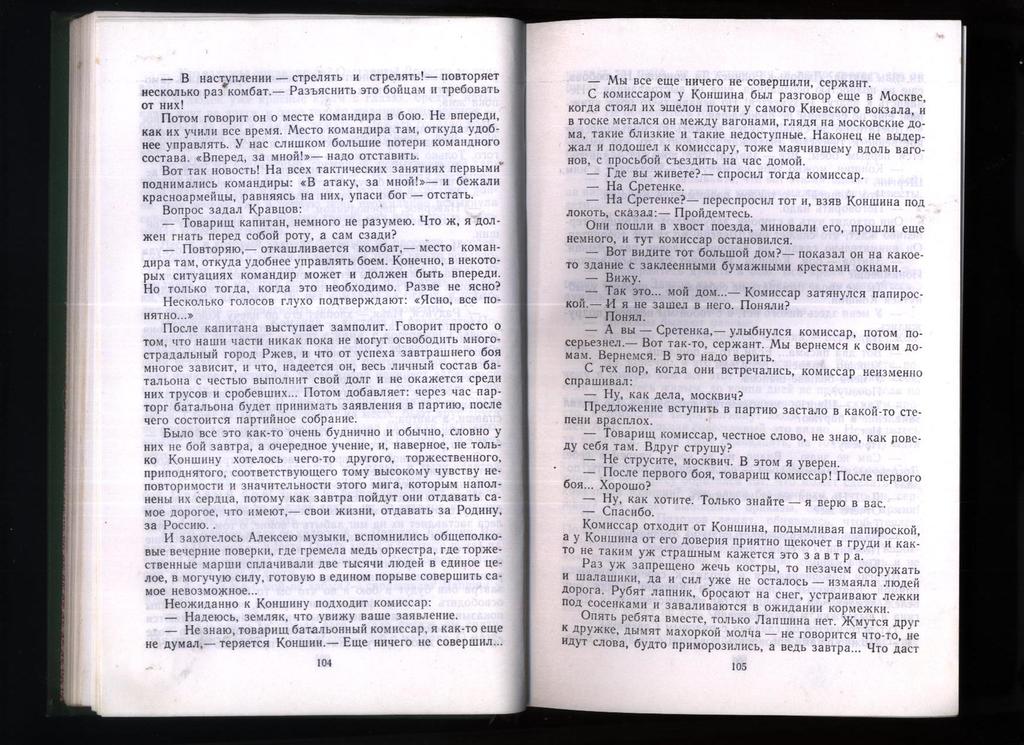12:48 Селижаровский тракт. 002. Повесть. Кондратьев Вячеслав | |
*** ***
— Да ты бомбежки настоящей еще не нюхал. — Я в эшелоне трассирующими по брюху "мессеру" бил, пока вы в снегу барахтались. — Что-то не видал… — А я видел. Верно, стрелял, — вступил в разговор один из молодых бойцов. — Ванюха не сдрейфил. Что было, то было. Ванюха расплылся в улыбке. — Хочешь, Ванюха, судьбу твою скажу? — это все тот пожилой, усмехаясь. — Говори. — Либо ты первую пулю получишь, либо первый орден. Понял? — Ты не пугай насчет пули, а в смысле ордена — может, и получу. Воевать так воевать… А колонна тем временем все растягивается и растягивается… Недохват еды, сна, тепла — все это сказывается на третьи сутки, и люди выбиваются из последних сил. Комроты Кравцов подходит к Коншину: — Своего лейтенанта устрой на подводу. Хромой он мне на передке не нужен. И вообще подтяни людей. — Есть лейтенанта на подводу! Есть подтянуть людей! — Коншин повторяет приказание подчеркнуто точно, и Кравцов глядит на него одобрительно. Последняя ночь, товарищ старший лейтенант? — Да, — негромко подтверждает ротный. — Значит, послезавтра бой? — Выходит, так… Боязно? — Кравцов чуть улыбается. — Как вам сказать? Наверно… — Не наверно, а наверняка. Но ничего. Учти — на тебя надеюсь. Четин слаб на изломе. В случае чего — взвод сразу тебе передам. Понял? — Понял! — расплывается Коншин в улыбке, и опять какие-то мальчишеские думки о том, что должен он совершить на войне что-то необыкновенное, пробегают в голове и забивают то тревожное, что не покидает всю дорогу. Много передумалось Кравцову за эти три ночи, но о родителях вспомнилось почему-то только на третью, на последнюю. О том, что плохо в деревне и что теперь, когда он комроты и получает полевые, надо бы часть аттестата послать старикам. До войны-то — из шестисот комвзводовских — не мог он помогать в деревню, сам, бывало, не прочь был пообедать в красноармейской столовой, что, конечно, не разрешалось, кроме тех дней, когда дежурил по части и снимал пробы. Отписать бы Дуське, чтоб послала хоть рубликов триста, но не пошлет же, больно охоча Дуська и до жизни, и до денег. И дает себе слово старший лейтенант Кравцов, что как поставят его на батальон — непременно старикам выделить половину аттестата. Коншин подходит к Четину: — Товарищ лейтенант, вам на подводу надо… — Дойду, — кривится от боли Четин. — Ротный приказал, — мягко, начиная жалеть взводного, произносит Коншин и берет его под руку. Пропустив колонну, он усаживает лейтенанта в сани санротовские, а сам идет вдогон роте. Красноармеец Филимонов тоже отстает, и Коншин бросает ему на ходу: — Подтянитесь, Филимонов, — на что вместо уставного "есть" слышит надоевшее: — Куда спешить? Все там будем. Коншин останавливается и выразительно смотрит на него. — Чего смотрите, командир? Мне не двадцать годков, как вам. Погонять-то вы все умеете, а вот спросить, что с человеком, нет вас. — Что же с вами, Филимонов? — Что, что! Устал я, мочи нет. — Все устали, — говорит Коншин, а потом, видя, что и действительно лица нет на Филимонове, добавляет: — Ладно, дождитесь лейтенанта, он в санротовских санях, к нему присядете. Филимонов садится прямо в снег — дожидаться хвоста колонны, а Коншин уходит вперед и догоняет тоже отстающего Савкина. Особо командовать Савкиным Коншину как-то неудобно, хотя, вытравляя в себе "интеллигентское слюнтяйство", бывал он с подчиненными и грубоват, и жестковат, чтобы доказать себе избавился от сантиментов. — Устали, Савкин? — сочувственно говорит он, когда они поравнялись. — Устал, товарищ командир, — слабо улыбаясь, отвечает Савкин. — Во второй раз идти туда труднее? — Несравнимо, товарищ командир. Уже известно все. Знаете, что поражает на войне? — Что? — Мало думаем мы на войне… Многое наобум было, на авось. Давай, давай! А на этом "давай" далеко не уедешь. — Помолчав немного, добавляет: — Нет умения еще. Нет. — Отогнали же от Москвы. Так было, Савкин, а сейчас все по-другому. Наступаем же мы. — Да, наступаем, — как-то вяло повторяет Савкин. — И будем наступать! — решительно произносит Коншин. Если Коншин в свои двадцать два не мог, конечно, распознать как следует людей своего взвода, хотя и казалось ему, что разобрался он в каждом, то для Савкина с его профессиональным учительским чутьем Коншин был как на ладони, и чуял он опасность и для себя, и для взвода в характере сержанта. Такой, чтоб доказать себе, что он не трус, может натворить глупостей, не пожалев себя, загубить и людей. А в общем-то был симпатичен ему этот мальчишка, который силой обстоятельств волен распоряжаться жизнью и смертью пятидесяти двух человек… и его, Савкина, жизнью тоже. Савкин подвигов совершать не собирался. Наоборот, он будет стараться всеми дозволенными способами сохранить жизнь. Она нужна не только ему. Но как это трудно — понимает. Знает он почти точно: будет наступление, у него шестьдесят шансов из ста на ранение, тридцать на смерть и только десять на жизнь. На жизнь… до следующего наступления. А там, по теории вероятности, шансы будут катастрофически уменьшаться. Он предпочитает ранение. Любое. Даже самое тяжелое. Но твердо знает, что ни на какую подлость ради сохранения жизни не пойдет. В прошлых боях выяснилось, что человек он не трусливый, что в самые страшные минуты способен мыслить, а первое ранение показало — может сносить физическую боль, а главное — знает он то, чего не знают, да и не могут знать те другие, кто идет туда впервые, — труса праздновать он не будет. Коншин пока этого не знает. Первая бомбежка в Лихославле, такая неожиданная, всех повергла в панику. Они неслись от эшелона, теряя шапки, роняя автоматы, падая в лужи — была ростепель, — и было так унизительно, что возвращались к поезду, стыдясь глядеть друг другу в глаза, с багровыми, смущенными лицами. Коншин был потрясен и поклялся себе, что в следующий налет не растеряется — ведь рядом с ними вагон санроты с сестричками. Но вторая бомбежка была так же негаданна. Разрыв бомбы у паровоза, а потом с диким ревом два "мессера", как какие-то доисторические желтобрюхие пресмыкающиеся, носились вдоль эшелона, расстреливая его крупнокалиберными. Хорошо, что случилось это не на поле, а около леса, в который они и бросились. Скорее, скорее! Подальше от вагонов! Бежали, проваливаясь в снег, ползли, катились… Казалось, бесконечно долго облетывали "мессеры" эшелон, бесконечно долго стучала дробь пулеметов… И тут Коншин тоже остался недоволен собой, хотя и пытался вести огонь из автомата по самолетам. Нет, видно, к этому надо попривыкнуть… Догоняя взвод, равняется он с Чураковым. Тот идет широким размеренным шагом и, кажется, может пройти так же легко еще столько же. Коншин, хлопнув его по плечу, некоторое время идет рядом. — Иван, ты, пожалуй, спокойнее всех? — начинает Коншин. — А чего травить себя зря? Что будет, то будет. — Ты не был в сарае. — Ну, если б и был? Вы что с Ильей, думали — хоромы для раненых по всему фронту построены? — Этого не думали, но вот так, как лежали эти люди… — Так чего же рассиропились? Война. Разве непонятно? У Чуракова железная нервная система. Он знает, что очень силен и с любым немцем, если дойдет до рукопашной, справится запросто; знает, что умеет прекрасно стрелять, окапываться, штыком владеет не хуже Кравцова, обладает боксерской реакцией, и совершенно справедливо полагает, что из всех них остаться живым шансов у него больше. Ну а если что… От судьбы не уйдешь. А воевать надо! Жестоко воевать! — Пахомыч сдает… Все о Волге ноет. Она мне тоже родная, Волга-то… В общем, Алеха, живы будем — не помрем. А навстречу все чаще и чаще попадаются подводы с ранеными. Закутаны они одеялами почти с головой, и лишь иногда увидишь небритое, со впавшими щеками, обострившееся лицо с закрытыми глазами, и невольно у всех сжимаются сердца и начинает сосать под ложечкой… Желтится на востоке небо, блекнет на западе зарево передовой, но все громче и громче ее рык. Она уже близехонька и ждет их — жадно, нетерпеливо. Этот рык жутью забирается в самую глубину души рядового Дикова, того самого, которого никак не раскусит помкомвзвода Коншин. Страх томил его еще на Урале, где формировались. Потому часто его глаза вспыхивали ненавистью ко всем, кто им командовал, — от отделенного до командира роты. В каждом командире видел — вот этот поведет меня на убой. Сам он одно время работал на бойне и теперь чувствует себя заарканенным бычком. Вот почему он так озирается всю дорогу, и его не привыкший мыслить мозг лихорадочно выискивает хоть какой выход, но пока не находит. Любили бабы Дикова, хотя и был некрасив, любили за мужское, и сейчас, вспоминая их, думает он: сколько еще могло быть у него женщин, если бы не эта проклятая война, если б не то страшное и непонятное, что ожидает его и против чего яростно протестует сильное, молодое тело. Так и идет он, внутренне упираясь, но влекомый общим движением колонны, безнадежно понимая — каждый шаг приближает его к тому, чего он не хочет и чего боится. Зато, если судить по виду, легко идет на войну командир первого взвода Андрей Шергин. Нет у него кубарей в петлицах, но шинель и шапка командирские. Затерялись в госпитале документы о присвоении звания, но прислали его из командирского резерва, потому и поставили на взвод. Коншин часто поглядывает на высокую стройную фигуру Шергина, туго перетянутую ремнями, его интересует Андрей. Слышал он, что после ранения, попав в нестроевую часть, выпросился Шергин в пехоту. Немногословный, он кое-что все-таки рассказывал про войну и — совсем не похожее на рассказы Савкина. Не был он напуганным, как другие "бывалые". — Андрей, — спросил как-то Коншин, — почему ты в пехоту пошел? Воевал же ты и знаешь, почем фунт лиха. — Я строевой командир. Нечего мне в стройбате делать. — Но там страшно, — протянул руку Коншин в сторону горящего неба. — Ну и что? — спокойно ответил Шергин. — Рисуешься? — Нет. — Шергин закурил. — Просто я должен вернуться другим, не таким, каким ушел. — Не понимаю. — Или не вернуться совсем, — продолжал Шергин. — Тоже не понимаю. И ты примирился с этим? С "совсем"? — Ты можешь представить, что тебя убьют? — Реально — нет. — Я тоже стараюсь об этом не думать. Разговор не удовлетворил Коншина. Только один раз — еще на Урале — видел он, как покинуло Шергина спокойствие. Получали письма, и когда выкрикнули его фамилию, он бросился, побледневший, схватил письмо и, отойдя в сторону, долго читал его, словно впитывая каждое слово. Потом не раз видел Коншин, как, забившись в уголок, чтоб никто не мешал, перечитывал Шергин письмо, и губы его кривила какая-то сдерживаемая, но все же заметная боль. — От девушки? — спросил Коншин. — От девушки, — спокойно, но нехотя бросил Шергин, так что продолжать расспросы Коншин не стал. И никто, кроме военной цензуры, не знал, что письмо это не от девушки… А что думал и чувствовал Шергин, читая и перечитывая письмо, не знал никто. Только видит Коншин, да не один он, что идет Шергин на фронт спокойный, подтянутый, решительный и очень сосредоточенный. Не так, как прочие: с сумятицей и томлением. Видит, но не знает тому причины и потому заговаривает с Шергиным часто, не смущаясь, что отвечает тот скупо и вроде безохотно. — Андрей, мой Савкин говорит, что на фронте порядка мало. Так ли? — У нас был толковый командир полка. Мы ни разу не попадали в окружение и отходили в полном порядке. — А ты сам совершил что-нибудь такое? — Что именно? О чем ты? — Ну, проявил себя? — Меня утвердили в должности комвзвода и послали аттестацию. — Значит, что-то сделал? — Наверное. — А за что дают награды? Что надо совершить, чтоб получить… ну, хотя бы "За отвагу"? — Мальчишеские вопросы, Коншин. — Ну, ты за что получил? — Просто воевал. Но "За отвагу" — это мало. — Хочешь большего? — Хочу. — Честолюбие? — Нет. Мне нужно. — Всем бы не мешало, — усмехается Коншин. — Другим это не так важно. — Вот как? Почему это — для тебя важно, для других… — Прости, я пойду к взводу, — перебивает Шергин и уже на ходу бросает: Когда-нибудь объясню. Под стать своему командиру взвода его связной Сашка — тоже ладный, подтянутый. Все ему впору: и шинель, и шапка, даже обмотки не уродуют его. Чуть он пониже Шергина, но крепко затянутый брезентовый пояс стройнит его. И шагает он тоже легко, привычным пружинистым шагом. Служил кадровую в пехоте переходил за эти годы не одну сотню верст, не одни сапоги истоптал, обвыкся в ночных походах. Нередко улыбка блуждает на его лице — было у него перед маршем необыкновенное: поцеловала его Зина из санроты, с которой бегал вместе при бомбежках и прикрыл своим телом, когда взрябили пули снег вокруг них и близились к ним… До сих пор ощущает он прикосновение холодных Зининых щек, до сих пор в памяти ее слова: "Ждать тебя буду, родненький…" Раза три за ночь обмахивает батальон на своей белой, как и его полушубок, лошади двадцативосьмилетний комбат — капитан Шувалов. Не пришлось ему побывать ни в Испании, ни на Халхин-Голе, где кое-кому из его друзей удалось заслужить ордена и славу. У него же на гимнастерке скромно поблескивает только значок "Отличник РККА" — маловато. Но впереди вся война, лишь бы не сплоховать. На последних учениях на Урале все прошло прекрасно — лихо поднимали командиры рот в атаку бойцов, с дружными криками: "Ура, за Сталина!" — с ходу была взята сопка, занятая "противником". Красиво прошли учения, и заслужил он благодарность комбрига. Что там, он еще не знает, но молод, самонадеян и верит в успех. Сам напросился, чтоб его батальон первым пошел в наступление, и хочется ему во что бы то ни стало выиграть свой первый бой — лиха беда начало… Часто подъезжает он к штабным саням, где едет Катенька — сестренка из санроты, любовь с которой началась еще на формировании. Поначалу не хотел брать ее в батальон, но она сама — "хочу с тобой быть, и никаких…". Конечно, на самый передок ее не возьмет, пусть в санвзводе будет. И хотя девушек там не было — разрешил комбриг, после того как сказал Шувалов, что как из боев выйдут, так и распишется он с Катенькой… Либо перед возможной смертью все таким настоящим кажется, либо и верно полюбил, потому как нет для него сейчас человека дороже… А когда представлял, что может кто полезть к Катеньке, если бы осталась она в санроте, то рука сама тянулась к кобуре, а в голову ударяла кровь… Комиссар батальона — или, как теперь, замполит тоже объезжает колонну на жирной гнедой кобыле, тоже в белом, перетянутом ремнями полушубке. Иногда останавливается, слезает с лошади и идет пешком, беседуя с бойцами. Он тоже ладен, высок. Голоса никогда ни на кого не поднимает, не чета комбату — тот покричать любит. Командиры, в общем, ничего. "Каковы будут на изломе?" — думает комроты Кравцов, повидавший на своем армейском веку всяких начальников. Любая война начинается с дороги. Сперва с железной, по которой катят в теплушках по восемь человек на каждых нарах, с печкой в середине, раскаливаемой докрасна и брызжущей огненными искрами, которые мечутся по всему эшелону, демаскируя его ночью. С короткими остановками, с негустой кормежкой, выдаваемой почему-то всегда ночью, когда она совсем не в радость, когда с еще не продранными глазами достаешь ложку и хлебаешь без вкуса полутеплую жидню. С дороги, на которой навстречу тянутся эшелоны с ранеными; с дороги, на которой их провожают печальными, а порой и заплаканными глазами женщины-солдатки, безнадежно помахивают руками, а некоторые и осеняют крестом; с дороги, на которой валяются искореженные вагоны, скрученные взрывом рельсы, и представить страшно, что же делается с людьми, с их живыми телами при такой вот силище разрыва; с дороги, на которой с тоской и ненавистью смотришь на ясное небо, потому как оно для тебя зло, потому как при таком-то безоблачном небе и жди самолетов. Но кончается эта железная дорога, и уже жалеешь о ней, потому что было тебе тепло, потому что не топал ты ногами, лежал лежмя на нарах, покуривая, и война была от тебя еще ох как далеко. И начинается дорога другая, где на плечах все твое нехитрое хозяйство, все твое довольно весомое оружие; дорога, по которой переть тебе пехом, спотыкаясь и скользя на обледенелом просторе; дорога, на которой и покурить-то как следует невозможно, а только таясь, в рукав, а потому и без вкуса… Дорога, где ни одного приветного огонька, ни одной живой деревеньки, ни одного какого жителя не встречается. Только торчат закопченные грубы да черные деревья с костлявыми, обожженными ветвями на тех местах по большаку, где были деревни… Дорога, на которой угрозно бухает где-то впереди фронт, раскатывается глухой гул недалеких боев и зловеще краснеет небо у горизонта. Но и этой дороге, как и всякой дороге на земле, приходит конец. Третью ночь тяжело бредет батальон. Подламываются уже ноги, в головах туман от неспаных ночей, в теле тошнотная слабость от недохвата еды, но люди идут и идут, подстегиваемые жесткими командами охрипших командиров: — Командиры взводов! Подтянуть людей! А те в свою очередь: — Командиры отделений! Подтянуть людей! Ну а отделенные уже бойцам: — Не отставать, мать вашу… — Подтянуться! — Эй, кто там остановился? Не отставать! Вперед! — Кто вздумал оправляться? Отставить! Донести до привала! А у людей уже красные круги в глазах, бредут, натыкаясь друг на друга, и одно только желание неимоверное — броситься на снег и лежать, лежать… Лежать гораздо дольше очередного походного привала, лежать ночь… день… еще ночь. Но ждет их ненасытный, гремящий, попыхивающий зарницами фронт, и они идут, идут, идут… И вьется Селижаровский тракт на Ржев вдоль Волги, за которой и грохочет война. Вот почему уже в первую ночь неожиданно вспыхнула справа передовая, вот почему хрипит она всю дорогу, напоминая о себе постоянно. Лесок, в который заходит батальон на рассвете, заселен. Голубовато вьются дымки из землянок, ржут где-то поблизости лошади, пахнет кухней… Эх, забраться бы в какую из землянок, хоть минутку побыть в тепле, перемотать портянки, искурить цигарку. Но нет команды на отдых, и проходят они мимо дошагивать последние километры. Наконец привал. Команда — костров не разжигать! Поначалу это не трогает черт с ними, с кострами! Главное, завалиться в снег и лежать. Так люди и делают — вся обочина устлана телами. Но вот когда расгоряченное ходьбой тело начинает застывать, когда холод начинает забираться под одежду и колюче покалывать спину — тут понимают они жестокость команды. И как ни трудно подняться — приходится. Стоят люди, подшагивают на месте, бьют друг друга по спинам, хлопают рукавицами, и одна надежда на кухню: может, потеплее малость станет, как похлебают они горячего. Все уже знают — последний это отдых в тылу. Завтра примет их неведомая, таинственная передовая и… грянет бой. Первый бой! Знают, но безразличествуют — слишком намучены, не до мыслей каких, не до загадок на будущее… Спать, спать, спать… Опять однополчане по кадровой Лапшин, Коншин, Чураков и Пахомов — вместе. Опять запах "Золотого руна" из трубки Ильи навевает воспоминания о Москве, о доме, опять они жмутся друг к другу. — А-а-а-д-р-е-с мой не забыл? — спрашивает Лапшин у Коншина. — Конечно, нет. — З-з-н-наешь, в случае чего… надо писать им сразу. Для них неизвестность хуже всего. — Это о матерях. О матерях, которые теперь в постоянном непокое будут ждать самого главного — коротких строчек с одним лишь известием: я пока жив. Они обменялись адресами, и это, казалось бы, обычное дело сейчас приобретает совсем другой, чем в мирное время, смысл — ведь кому-то из них придется писать о смерти другого. Только кому и о ком — неведомо пока никому!… — Ребятки, — начинает, заикаясь, Илья, — вот какое дело… В штаб меня берут. Честное слово, не просил никого. — Ну и здорово, — говорит Чураков. — Кем? — Наверное, переводчиком. — Поздравляю, Илья, — как-то вяло произносит Коншин. — Чего поздравлять? Я же не хотел… Я не знаю, откуда они узнали о немецкой школе… — Ладно, ладно. Ты чего… словно извиняешься. Взяли — и хорошо. Война долгая, успеешь еще навоеваться, — ободряет Чураков. — Радуйся, Илья, — хлопает его по плечу Коншин. Но что-то встало между ними. Нет, не завидуют они Лапшину, даже рады за него, но… разделились их судьбы, какой-то холодок отчуждения непроизвольно прошелся, и Илья почувствовал это острее других. Раздается сигнал к сбору. — Вот гадство, отдохнуть не дают, — бросает в сердцах Пахомов. — И костров не жги. Так продрожим весь день не спавши, а завтра… И обжигает это всех — завтра! Завтра! В котором — бой! Это реально! Это неотвратимо! Это будет! Словно ледяной ком прокатывается внутри, но вскоре тает, отходит, оттесненный тяжелой, непроходимой усталостью, при которой все трын-трава. Медленно подходят они к месту сбора, на небольшую поляну, окруженную молодыми сосенками, и тишина зимнего леса заставляет их на миг забыть о войне, о том, что сейчас получат они последнее напутствие перед боем… На поляне только командиры, вплоть до отделенных. Стоят полукругом, без строя. В середине ослепительно выбритый комбат, уверенным, хорошо поставленным голосом говорит о том, что завтра они будут в бою и во что бы то ни стало должны освободить занятые фашистами деревни, что опыт войны показывает — неудачи некоторых наступлений объясняются тем, что бойцы ведут недостаточно сильный огонь в ходе боя и тем дают врагу возможность прицельно стрелять. — В наступлении — стрелять и стрелять! — повторяет несколько раз комбат. Разъяснить это бойцам и требовать от них! Потом говорит он о месте командира в бою. Не впереди, как их учили все время. Место командира там, откуда удобнее управлять. У нас слишком большие потери командного состава. "Вперед, за мной!" — надо отставить. Вот так новость! На всех тактических занятиях первыми поднимались командиры: "В атаку, за мной!" — и бежали красноармейцы, равняясь на них, упаси бог отстать. Вопрос задал Кравцов: — Товарищ капитан, немного не разумею. Что ж, я дожен гнать перед собой роту, а сам сзади? — Повторяю, — откашливается комбат, — место командира там, откуда удобнее управлять боем. Конечно, в некоторых ситуациях командир может и должен быть впереди. Но только тогда, когда это необходимо. Разве не ясно? Несколько голосов глухо подтверждают: "Ясно, все понятно…" После капитана выступает замполит. Говорит просто о том, что наши части никак пока не могут освободить многострадальный город Ржев, и что от успеха завтрашнего боя многое зависит, и что, надеется он, весь личный состав батальона с честью выполнит свой долг и не окажется среди них трусов и сробевших… Потом добавляет: через час парторг батальона будет принимать заявления в партию, после чего состоится партийное собрание. Было все это как-то очень буднично и обычно, словно у них не бой завтра, а очередное учение, и, наверное, не только Коншину хотелось чего-то другого, торжественного, приподнятого, соответствующего тому высокому чувству неповторимости и значительности этого мига, которым наполнены их сердца, потому как завтра пойдут они отдавать самое дорогое, что имеют, — свои жизни, отдавать за Родину, за Россию… И захотелось Алексею музыки, вспомнились общеполковые вечерние поверки, где гремела медь оркестра, где торжественные марши сплачивали две тысячи людей в единое целое, в могучую силу, готовую в едином порыве совершить самое невозможное… Неожиданно к Коншину подходит комиссар: — Надеюсь, земляк, что увижу ваше заявление. — Не знаю, товарищ батальонный комиссар, я как-то еще не думал, — теряется Коншин. — Еще ничего не совершил… — Мы все еще ничего не совершили, сержант. С комиссаром у Коншина был разговор еще в Москве, когда стоял их эшелон почти у самого Киевского вокзала, в тоске метался он между вагонами, глядя на московские дома, такие близкие и такие недоступные. Наконец не выдержал и подошел к комиссару, тоже маячившему вдоль вагонов, с просьбой съездить на час домой. — Где вы живете? — спросил тогда комиссар. — На Сретенке. — На Сретенке? — переспросил тот и, взяв Коншина под локоть, сказал: Пройдемтесь. Они пошли в хвост поезда, миновали его, прошли еще немного, и тут комиссар остановился. — Вот видите тот большой дом? — показал он на какое-то здание с заклеенными бумажными крестами окнами. — Вижу. — Так это… мой дом… — Комиссар затянулся папироской. — И я не зашел в него. Поняли? — Понял. — А вы — Сретенка, — улыбнулся комиссар, потом посерьезнел. — Вот так-то, сержант. Мы вернемся к своим домам. Вернемся. В это надо верить. С тех пор, когда они встречались, комиссар неизменно спрашивал: — Ну, как дела, москвич? Предложение вступить в партию застало в какой-то степени врасплох. — Товарищ комиссар, честное слово, не знаю, как поведу себя там. Вдруг струшу? — Не струсите, москвич. В этом я уверен. — После первого боя, товарищ комиссар! После первого боя… Хорошо? — Ну, как хотите. Только знайте — я верю в вас. — Спасибо. Комиссар отходит от Коншина, подымливая папироской, а у Коншина от его доверия приятно щекочет в груди и как-то не таким уж страшным кажется это завтра. Раз уж запрещено жечь костры, то незачем сооружать и шалашики, да и сил уже не осталось — измаяла людей дорога. Рубят лапник, бросают на снег, устраивают лежки под сосенками и заваливаются в ожидании кормежки. Опять ребята вместе, только Лапшина нет. Жмутся друг к дружке, дымят махоркой молча — не говорится что-то, не идут слова, будто приморозились, а ведь завтра… Что даст им силы завтра? Любовь к Родине? Да, конечно! Но любовь, еще не полностью осознанная, еще не выстраданная… Ненависть к врагу? Разумеется! Но ненависть-то пока книжная, еще по сердцам не прошедшая… Достаточно ли сильно будет держать их мальчишеское презрение к трусости? Выдюжат ли ребята то, что именуется первым боем? Все — завтра! Все покажет завтра! — Коншин, можно тебя на минутку? — подходит к ним Шергин. — Что, Андрей? — с трудом поднимается Коншин. — Поговорить надо. Они отходят чуть в сторону, закуривают, и Коншин терпеливо ждет, что скажет ему Шергин, но тот не торопится. Он внимательно глядит на Коншина, словно раздумывая. — Завтра — бой, Коншин. И может случиться всякое. Понимаешь? — Ты же вроде помирать не собирался, — пробует улыбнуться Коншин. — У меня здесь никого нет, а с тобой мы немного подружились… — Да. — Вот два письма… Если что — пошлешь… — Хорошо, Андрей… Если сам… — У меня больше шансов. — Почему? — Так… — Шергин затягивается цигаркой. — Ты подал заявление в партию? — Нет. — Почему? — Сам не знаю… Видно, не до конца уверен в себе. Договорился с комиссаром — после первого боя. А ты подал? — Да. Но меня могут не принять. — Отчего же? — Так… — Излишней откровенностью ты не страдаешь. — Пожалуй… Я скажу тебе… чуть позже… — Как хочешь. Шергин поворачивается и уходит к своему взводу — прямой, подтянутый, спокойный, а Коншин, глядя ему вслед, думает, что не мешало бы позаимствовать у Шергина и выдержки, и хладнокровия. Тут встречается он глазами с рядовым Савкиным. — Можно с вами поговорить, товарищ сержант? — спрашивает тот тихо, не по-уставному, и легко трогает его за рукав. — Говорите. — Не обижайтесь только, если вам покажется, что я скажу нечто нравоучительное. Но я старше вас почти вдвое и в бою завтра буду не в первый раз. И, я думаю, это дает мне право сказать вам кое-что… — Я слушаю вас, Савкин. — Никогда не забывайте, что вот эти пятьдесят два бойца вашего взвода люди, у которых матери, жены, невесты, дети… — Я понимаю это. — Это мало — понять… Надо душой прочувствовать, что ли… — Что дальше, Савкин? — Постарайтесь думать в бою. Все время думать. Это очень трудно. Завтра вы в этом убедитесь, но старайтесь… думать и… сберечь людей… — Савкин, я буду выполнять приказ… — Приказы бывают разные. — Приказы не обсуждаются, Савкин, — перебивает Коншин. — Да, конечно, я это знаю, но все-таки… Вы знаете, почему я говорю вам все это? Вы никогда не простите себе, если останетесь живым, до конца дней не простите, если по вашей неосмотрительности, растерянности или, скажем просто, недомыслию зазря погибнут люди. Война не все спишет. А вы — мальчик совестливый, это видно… Не сердитесь за мальчика, моему сыну семнадцать, на тот год ему идти на фронт… Коншин возвращается к своим, обдумывая слова Савкина. Не по адресу обратился тот. Что может сделать помкомвзвода Коншин? Эти слова бы комбату, а что он, сержант? Он будет выполнять приказы. Это закон армии! Чураков и Пахомов лежат, обнявшись, чтоб теплее. Подбросив лапнику, Коншин ложится рядом и прижимается к холодной и влажной шинели Чуракова. Поднимает воротник, подтягивает ватник к лицу, чтоб дышать внутрь и не упускать тепла. Пахомов открывает глаза. — Помнишь, Алеха, на учении один из "бывалых" сказал: "Все будет не так. Он как да-аст…"? — Помню. — Вот и я думаю… Наверно, действительно будет все не так. Совсем непохоже, совсем другое… — В глазах Пахомыча тоска. — Чего гадаешь? — просыпается Чураков. — Конечно, будет не так. Придем увидим. — Ну и бугай ты, Иван! У тебя что, нервов нет? — Почему нет? Просто раньше времени нечего слякоть разводить. Давайте спать. Но не спится… А вскоре команда на обед разводит их по своим взводам. Гремит котелками батальон, тянутся все к кухням, от которых пар валом и запах пшенки.
По пути на кухню Коншин видит своего взводного. Сидит тот прямо на снегу, прислонившись к стволу. Рот приоткрыт и как-то обиженно по-детски опущен вниз. Алексей остановился около него, и что-то жалостное входит в сердце, как свое ощущает он и одиночество, и неприкаянность лейтенанта, а тот вдруг всхлипывает во сне, и слеза медленно ползет по щеке. — Лейтенант! — тянет его Коншин за рукав шинели. — Проснитесь. Обед. Четин открывает глаза, вначале непонимающе глядит на сержанта, потом слабо улыбается. — Давайте котелок, лейтенант, принесу обед. — Да я сам. — Сидите, сидите. Я схожу. Вместе и поедим. Хорошо? — Хорошо, — вроде удивляется Четин. Не балован он вниманием своего помкомвзвода. Пшенка хоть и жидковата, но горяча, и они молча хлебают ее, закусывая сыроватым полузамерзшим хлебом. — Я немного виноват перед вами, лейтенант, — начинает Коншин. Но тот машет рукой: — Ладно, сержант. — Вытаскивает легкий табак и предлагает Алексею. — Ты лучше скажи, — вдруг переходит он на "ты", — что делать, если и в бою этот Диков откажется выполнять приказ? — По уставу, лейтенант, командир может и должен даже силой заставить исполнить приказ. Вплоть до применения оружия. — Это я знаю. — Лейтенант закашливается. Курить он начал только на марше. — Но если и под угрозой оружия… не выполнит, что тогда? Ты сможешь застрелить человека? — Не знаю… — А я знаю — не смогу. И что делать? — Ничего, лейтенант, не беспокойтесь. Я заставлю этого типа делать что положено. Цигарка у Четина развертывается, табак просыпается. — Как настроение у взвода? — "Бывалые" скисли, а кто впервые — те ничего, — отвечает Коншин. Они долго молчат, потом Четин морщит лоб и, словно отрезая себе пути назад и скрывая волнение, говорит: — Ты слыхал, что говорил комбат? Но я… я пойду впереди взвода… Ты понял? — Зачем это? — Так надо. А ты будешь подтягивать людей сзади. Договорились? Четин опять неумело начинает свертывать самокрутку, руки у него немного дрожат… Коншин зажигает спичку. Лейтенант затягивается и опять раскашливается. Видит Коншин — нелегко далось Четину такое решение. И сказал-то о нем лишь потому, что боится: вдруг не сможет этого сделать. — Я прикажу сейчас устроить вам шалашик. — Коншин встает. — Не стоит… — Ну, хоть лапнику нарубят… Простудитесь так. — Ерунда… — чуть улыбается лейтенант. Идя к взводу, Коншин наталкивается на Илью — взволнованного, даже вроде ошарашенного. — Т-ы зна-ешь, ка-кое д-д-де-ло? Меня взяли в р-р-р-азведку… Понимаешь, в р-разведку! — В бригадную? — Нет, в батальонную. — Ты ж говорил — переводчиком? — Буду и переводчиком. "Языков" допрашивать. Это з-з-здорово, Алеша. Интересно, чем сейчас немцы дышат? Это же потрясающий материал. — "Языка"-то надо сперва добыть, — отрезвляет Илью Коншин. — Ко-не-чно… — Ты доволен, что ли? — Я ж с вами буду, в одном батальоне. Знаешь, как мне неудобно было, что вы там, а я в штабе. — Ты ж ни черта не умеешь, Илья. Ни стрелять, ни окапываться, ни ползать даже как следует. Какой ты разведчик? — Нау-чусь, Леша, нау-чусь. — Он набивает трубку. А Коншин вспоминает, как подбиралась бригадная разведка, и улыбается. — Ты чего? — спрашивает Илья. — Помнишь, как бригадную разведку набирали, какие ребята требовались? — Помню… Я, конечно, в этом смысле, может, и не гожусь, но у меня есть другое… И язык я знаю… — Что же другое? — Интеллект. — Думаешь, пригодится? — Надеюсь. — После небольшой паузы Лапшин тихо спрашивает: — Леша, что ты чувствуешь? — Ни черта не чувствую! Хочу жрать, спать, хочу тепла. — Только-то? Не верю. — Знаешь, по-моему, все эти описания ночи перед боем, когда герой перебирает свою прошлую жизнь, вспоминает родных, любимую, — мура! Не так это! Ни о чем сейчас не думаю. Выспаться бы… — Коншин широко зевает, может, несколько подчеркнуто. — Ты-ты-т-ы неискренен, Алексей. Ну, ладно… Желаю… — Не надо прощаться, — перебивает Коншин. — И вообще… без сантиментов, Илья. Живы будем — не помрем, как говорит Чураков. *** *** Селижаровский тракт. 001. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 002. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 003. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 004. Селижаровский тракт. 005. Повесть. Кондратьев Вячеслав Селижаровский тракт. 006. Повесть. Кондратьев Вячеслав . Книга... Сороковые. *** *** На станции Свободный. Рассказ. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 001 *** Дорога в Бородухино. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 002 *** Селижаровский тракт. 01. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 003 *** Селижаровский тракт. 02. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 004 *** Селижаровский тракт. 03. Повесть. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 005 *** Женька. Рассказ. Книга... Сороковые. Вячеслав Кондратьев. 006 *** *** *** *** *** Вячеслав Леонидович Кондратьев. ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ. Повесть. 001 *** Сашка. 001. Повесть.Вячеслав Кондратьев *** Страницы книги. Сашка. Повесть. Вячеслав Кондратьев. 001 *** Вячеслав Кондратьев. ... Стихи...
*** *** ПОДЕЛИТЬСЯ
*** *** *** *** *** *** | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |